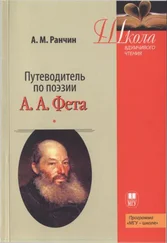Enjambement после слова «концы» побуждает прочесть его как существительное, не требующее дополнения; таким является слово «концы» — «корабельные канаты». Благодаря этой ассоциации порождаются коннотации «путешествие» (путешествие — инвариантный мотив Бродского). Аналогичный случай — строки «Тая в стакане, лед позволяет дважды / вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды» («Пчелы не улетели. Всадник не ускакал. В кофейне…» [III; 177]) — цитата и отрицание изречения «Нельзя вступить в одну реку дважды». Более сложна трансформация этого же изречения:
И нельзя вступить в то же облако дважды. Даже
Если ты бог. Тем более, если нет.
(«Вертумн» [III; 202])
Здесь река подменена облаком (основа такой идентификация — общая сема у этих слов — «вода»). При переписывании, совершенном Бродским, исходное изречение приняло двусмысленный характер. Оно оказывается одновременно и истинным, и ложным. С одной стороны, вступить — в буквальном смысле слова — в облако нельзя даже однажды; с другой — попасть в (на) облако можно и дважды, и трижды (например, на самолете).
Строки могут строиться как реализация нескольких «свернутых», подверженных компрессии пословиц. Так, в стихотворении «Лагуна» стих «по горбу его плачет в лесах осина» (II; 318) является трансформацией пословиц «могила по тебе плачет», «горбатого могила исправит» и поговорки «вбить в могилу осиновый кол».
Другой случай — соединение в одной лексеме значений нескольких слов — омонимов, расширение полисемии слова: «Причин на свете нет, / есть только следствия. И люди жертвы следствий. / Особенно в тех подземельях, где / все признаются <���…>» («Бюст Тиберия», 1985 [III; 108]) — обыгрываются два значения слова «следствие»: 1) результат чего-либо; 2) юридическая процедура, дознание [100].
И, услышав это, хочется бросить рыть
Землю, сесть на пароход и плыть,
И плыть — не с целью открыть
Остров или растенье,
Прелесть иных широт,
Новые организмы, но ровно наоборот;
Главным образом — рот.
(«Fin de siècle», 1989 [III; 195])
Этот текст строится как развертывание мотива открытия (=обнаружения) чего-либо нового (в географии и биологии), который в финальном pointe сменяется мотивом открытого (=разинутого) рта.
В стихотворении «Не слишком известный пейзаж, улучшенный наводнением…» слово «перископ» означает прибор подводных лодок для наблюдения за водной поверхностью (если считать, что это слово здесь стоит в творительном падеже сравнения «поднять ребенка, как перископ»). Но при трактовке падежа «перископом» как творительного инструментального («поднять с помощью чего») «перископ» превращается в эвфемистическое именование мужского полового органа (ср. разговорный эвфемизм «прибор»). Текст допускает оба прочтения:
И впору поднять перископом ребенка на плечи,
чтоб разглядеть, как дымят вдали корабли врага.
(III; 241)
Одно слово может вбирать в себя одновременно семантику двух омонимов:
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру.
(«Натюрморт» [II; 270])
Ритм предписывает чтение писать, а контекст — писать [101].
В строках «Две половинки карманной луковицы / после восьми могут вызвать слезы» («В этой маленькой комнате все по-старому…», 1987 [III; 137]) лексема «луковица» приобретает значение «часы особой формы», но сохраняет коннотации «корень лука»; выражение «карманная луковица» по отношению к часам — тавтология.
В слове «конец», входящем в одно из поэтических суждений в «Колыбельной Трескового мыса», реализованы одновременно два значения («завершение» и «половой член»):
тело служит в виду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдается во Время.
(II; 364) [102]
Аналогичный случай — в стихотворении «Гуернавака» из цикла «Мексиканский дивертисмент» (1975):
Сад густ, как тесно набранное «Ж».
(II; 366)
Первое прочтение: стих содержит уподобление сада букве; это один из повторяющихся образов Бродского, реализующих мотив тождества или изоморфности мира и текста (языка). Но эротический контекст («В саду, где М., французский протеже, / имел красавицу густой индейской крови» [II; 366]) и интертекстуальная соотнесенность с циклом «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (М. — мексиканский император. Максимилиан, ставленник Франции, занимающийся любовью в саду, — и Мария Стюарт, статую которой видит в парижском Люксембургском саду лирический герой, размышляющий о ее любовных связях) побуждают увидеть в этой строке вариацию стиха «„Бесстыдство! Как просвечивала жэ!“» (II; 342) из тринадцатого сонета. Такое прочтение поддерживается словом «сад», фонетически близким к «зад». Одновременно корреляция «М» и «Ж» в «Гуернаваке» вызывает третье, иронически-неприличное прочтение: «М» и «Ж» — буквы, означающие мужской и женский туалеты.
Читать дальше