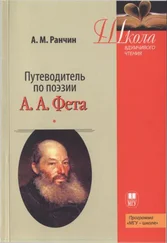Однако показательно сходство принадлежащих им определений поэзии. «В художественном творчестве есть момент ремесла, хладного и обдуманного делания. Но природа творчества экстатична. По природе искусство религиозно, ибо оно, не будучи молитвой, подобно молитве и есть выраженное отношение к миру и Богу» [568]. Эта строки из статьи Ходасевича «О Сирине» перекликаются с определением Бродского, данным поэзии в послесловии к книге стихов Юрия Кублановского: «Стихотворение, в конечном счете, приводится в действие тем же механизмом, что и молитва» [569]. Чуждо Бродскому в высказывании Ходасевича лишь романтически-символистское представление об экстатической природе творчества.
В прозе Бродского встречается одна глубоко не случайная цитата из Ходасевича, который нашел выразительную формулу для определения своего места в русской поэзии: «Привил-таки классическую розу / К советскому дичку» («Петербург») [570]. Первую из этих двух строк Бродский процитировал в эссе «Путешествие в Стамбул»: «Составляя эту записку в местечке Сунион, на юго-восточном берегу Аттики, в 60 км от Афин <���…>, я ощущаю себя разносчиком определенной заразы, несмотря на непрерывную прививку „классической розы“, которой я сознательно подвергал себя на протяжении большей части моей жизни» (IV (1); 128). В английском варианте эссе — «Flight from Byzantium» — указано и имя автора этой строки [571]. В эссе Бродского классическая цивилизация и Запад как ее правопреемник противопоставлены Византии и Востоку (включая Россию и Советский Союз), «византийский» и азиатский дух несвобода обозначается выражением «определенная зараза»; этой смертоносной «заразе» противопоставлена целительная прививка «классической розы». Таким образом, если Ходасевич в стихотворении «Петербург» представляет себя своеобразным медиатором между классической словесностью и советской действительностью [572], то Бродский в эссе «Путешествие в Стамбул» демонстративно отказывается от этой миссии, полемически переиначивая смысл цитируемой строки: у автора эссе прививка не «к», а «от», это не средство создать новые культурные формы, но способ охранить существующие. Однако при всей отчетливой полемичности жеста не случайно обращение именно к Ходасевичу, который является для Бродского манифестацией классической культуры. Такое восприятие объясняет функции цитат из Ходасевича в стихотворениях Бродского.
В одном из наиболее насыщенных реминисценциями поэтических циклов Бродского — «Часть речи» (1975–1976) — интертекстуальные связи с Пушкиным и Ходасевичем прослеживаются сразу в нескольких стихотворениях. В стихотворении «Север крошит металл, но щадит стекло…» Бродский переиначивает строки из «Полтавы»: «Так тяжкий млат, / Дробя стекло, кует булат» (IV; 184). Такое переосмысление может объясняться полемикой с Пушкиным — певцом империи, оправдывающим деспотизм ее создателя Петра I. Но трансформация пушкинских строк имеет иной смысл. Собственное стихотворение Бродский строит как переписывание — в буквальном смысле слова — чужих текстов: новый смысл появляется благодаря рекомбинации заимствованных из чужих произведений элементов. Текст Бродского — почти классический центон. Такая «центонность», свойственная и другим его произведениям, является реализацией представлений Бродского о творческой, креативной сущности языка, орудием которого оказывается поэт [573]. В завершающей строфе этого стихотворения:
И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай» —
(II; 398)
переиначены уже строки Ходасевича:
Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, зимнее светило,
За черный лес не упадай.
(с. 157)
Эти стихотворения объединяет мотив «замерзания». У Ходасевича замерзание символизирует утрату вдохновения, у Бродского — разлуку, умирание чувства (его стихотворение имеет любовный подтекст). Оба содержат отсылки к пушкинским текстам: «Север крошит металл…» — к «Полтаве», «Вдруг из-за туч озолотило…» — к «19 октября» (1825), открывающемуся описанием краткого осеннего дня («Проглянет день как будто поневоле / И скроется за край окружных гор» [II, 244]). «Холодный чай» Ходасевича переиначен Бродским в «горячий чай». «Черному лесу» соответствует чернеющее «прощай». Сигналом того, что стихотворение Бродского переписывалось, является подчеркнутое нарушение семантической правильности высказывания: глагол «раздается» должен относиться или к смеху, или к «прощай», но не к снегу. Холод у Бродского обретает, в противоположность Ходасевичу, позитивные коннотации: «Холод меня воспитал и вложил перо / в пальцы, чтоб их согреть в горсти» (II, 398). У Ходасевича же холод контрастирует с поэтическим вдохновением: «Дай посиять в румяном блеске, / Прилежным поскрипеть пером» (с. 157). Одновременно эти строки и Ходасевича, и Бродского — отклик на пушкинскую «Осень», в которой мотив осенних холодов и скорой временной смерти природы соединен с мотивом вдохновения. Ходасевич цитирует также более раннее пушкинское «Зимнее утро», с которым «Осень» интертекстуально соотнесена. Строки из «Зимнего утра»: «Вся комната янтарным блеском / Озарена» (III, 125) — у Ходасевича превращаются в «Дай посиять румяным блеском». Кроме того, Ходасевич и Бродский цитируют строку из «Осени»: «И пальцы просятся к перу…» (III, 248).
Читать дальше