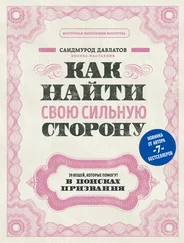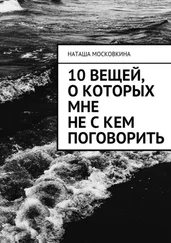Кеньон же вместе с другими энтузиастами генетической защиты от старости отстаивает свои идеи не менее жестко. Надо, твердят они, нащупать впотьмах рубильник и повернуть рукоятку, тогда для нас начнется вечная жизнь. Конечно, если изучить во всех подробностях генетику долговечных видов — тех же черепах Блэндинга или гренландских китов, предположительно способных прожить свыше двухсот лет, — можно было бы найти больше информации о бессмертии. Но сделать это затруднительно по техническим причинам: размножать и сохранять клеточные культуры высших животных не так просто, а научные опыты с охраняемыми видами обложены со всех сторон правовыми ограничениями. Оттого кажется, что спорам о смерти ползти и пресмыкаться еще ох как долго. Совсем как той неувядаемой черепахе Блэндинга.
Но вот еще одна гипотеза, которая могла бы подсказать нам путь. Генные эксперименты Синтии Кеньон подтверждают, что биохимическая регуляция старения одинакова у дрожжевых грибков, червей, насекомых и млекопитающих. Если бы мутации возникали случайным образом, то каждый тип живых организмов имел бы свою особую механику старения. Однако же шаблон один на всех. Для Уильяма Кларка, иммунолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, причина этого очевидна: явление развилось у общего предка нынешних видов. Смерть, как он считает, возникла вместе с первыми эукариотами — существами, чьи крупные и сложно организованные клетки содержат ядро, несущее генетическую информацию.
Эта история берет начало примерно три миллиарда лет назад, когда миром правили прокариоты — бактерии и архей. В некоторый момент микроорганизмы приобрели способность использовать солнечный свет для разложения воды на составные части. Протоны и электроны водородных атомов осуществляли фотосинтез, снабжая бактерий самым ценным в их жизни — энергией. Кислород, напротив, высвобождался как опасный побочный продукт.
Большую часть кислорода поглотил зеленый, богатый железом океан той эпохи, порождая тяжелые красные частицы окиси железа, которые опускались на океанское ложе (с тех пор тектонические сдвиги вынесли гигантские участки дна из воды, и обнажившиеся красные прослойки породы позволяют нам многое понять о древнем прошлом). Когда же все железо оказалось связано, кислород стал просачиваться в атмосферу над океаном. Повышение его содержания в воздухе вызвало кислородную катастрофу.
Кислород — сильный яд. При его распаде, скажем, под воздействием солнечного света образуются свободные радикалы, губительные для живых клеток. Около 2,4 миллиарда лет назад насыщение земной атмосферы кислородом привело к массовому вымиранию прокариот, павших жертвой собственной эволюции. Уцелели лишь глубоководные виды, обитавшие в безопасном удалении от солнечных лучей, развив для выживания в новой среде такие адаптивные механизмы, как аэробное дыхание.
Кроме того, они приобрели полезнейшую способность эффективно перерабатывать кислород в АТФ, топливо для живых клеток. А затем произошло «рейдерское поглощение»: зародившиеся эукариоты научились обволакивать бактериальную мелочь, присваивая производимую ею энергию. Для захватчиков это оказалось выгодно вдвойне: поскольку бактерии уже научились защищаться от разрушительного воздействия кислорода, эукариоты получили эту защиту, что называется, в одном пакете.
Однако в новой биологической конструкции нашелся важный изъян: генератор кислородных радикалов, встроенный, образно говоря, прямо в сердце эукариотической клетки. Митохондрии наших клеток — это реликтовые останки древних бактерий, живых фабрик АТФ. Именно они дают нам жизненную силу, но одновременно выделяют разрушительные частицы. Что ж, за все хорошее приходится платить.
Опасная проблема потребовала очередного новаторского решения — дифференциации полов. Так, во всяком случае, считает Кларк. Мы еще не знаем в точности, почему у живых существ развился секс, но, скорее всего, Кларк прав: этот феномен вполне могла породить эволюция смерти. Половое размножение, при котором гены родительских организмов перемешиваются и перетасовываются, дает возможность коррекции и починки ДНК, и, таким образом, потомство получает новый, потенциально благоприятный набор генов. Это несомненное преимущество, при том что организм и так постоянно балансирует между двумя крайностями: эффективная выработка производство энергии приводит к поломке клеточных механизмов, а сохранение клетки в жизнеспособном состоянии снижает эффективность энергопроизводства.
Читать дальше
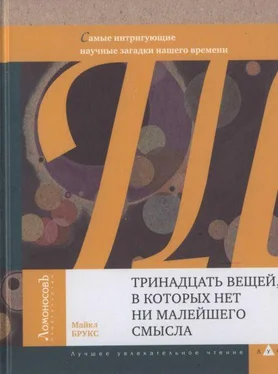



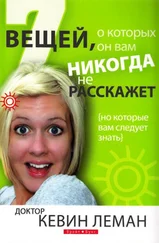


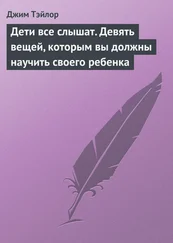
![Саидмурод Давлатов - Как найти свою сильную сторону [39 вещей, которые помогут в поисках призвания] [litres]](/books/389503/saidmurod-davlatov-kak-najti-svoyu-silnuyu-storonu-thumb.webp)