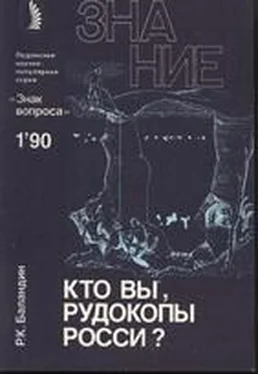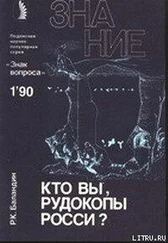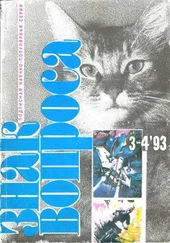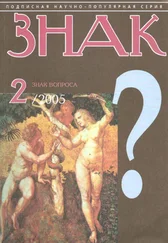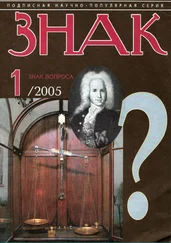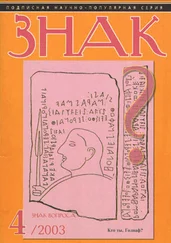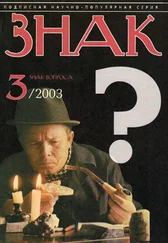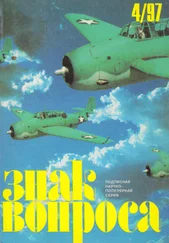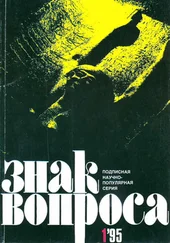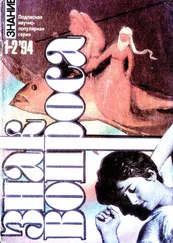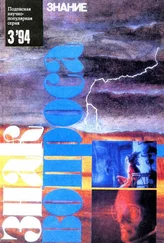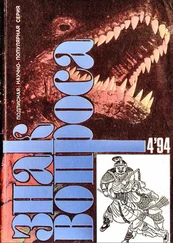Б. А. Рыбаков распутывает этот узел так: «Вокруг Полянского Киева и реки Роси (где обитали руссы или россы) складывается уже в VI в. могучий союз славянских племен, охвативший и левобережную лесостепь до земли северян включительно». Правда, не совсем ясно, почему ядро союза было полянско-киевское, а название какое-то чуждое, невесть откуда взятое?
Вспомним свидетельство Константина Багрянородного: россы «спускаются рекою Днепр (автор перечисляет северные города, в частности, Смоленск, Новгород.– Р. Б.) и сходятся в крепости Киоава (Киеве)… Славяне же, их пактиоты (данники)… рубят в своих горах моноксилы (ладьи)…».
Выходит, славяне – данники россов, выходцев с более северных, чем киевская, земель (а ведь река Рось находится южнее Киева!). Более того, судя по хроникам тех -лет, у послов российских имена преимущественно скандинавские. Франкский император на этот счет провел надлежащее тайное расследование и выяснил, что послы по национальности шведы и, по-видимому, действительно представляют народ россов, царь которых зовется хаканом.
Если столь могущественное племя возникло на контакте славянских и тюркских, ираноязычных племен, то почему оно сделало своими данниками славян, а послами скандинавов? Подобные замысловатые вопросы привели ряд ученых к определенному выводу: идея южной прародины россов (руссов) не очень убедительна.
В книге Г. С. Лебедева «Эпоха викингов в Северной Европе» решительно опровергается идея первичной Южной России: «Обоснованно отвергнуты как несостоятельные любые попытки возвести летописное „Русь“ непосредственно к росомонам, роксоланам, библейско-византийскому Rhos (рос, или рош.– Р. Б.), а также к реке Рось в Среднем Приднепровье. Бытование на юге древних форм „рос“, после ее появления. Но возникнуть она могла только там, где для этого имелись необходимые лингвистические предпосылки. Они имелись прежде всего в северных новгородских землях, где сохранилась богатейшая древняя топонимика (Руса, Порусье, Околорусье в южном Приильменье; Руса на Волхове, Русыня – на Луге, Русська – на Воложбе и Рускиево – в низовьях Свири, в Приладожье), полностью отсутствующая на юге».
Действительно, на севере финские племена издавна употребляли слово «рутси», «руотси», «руосса». Правда, так называли… шведов. Но нередко тем же словом называли и русских. На это обстоятельство давно обратил внимание советский ученый В. А. Брим, который выводил «руотси» от слова «дротс», означающее «дружина». Соглашаясь с этой гипотезой, Г. С. Лебедев делает вывод: «Верхняя Русь является единственной областью, где имелись все предпосылки для такого преобразования в виде длительных и устойчивых славянофинско-скандинавских контактов».
Так-то оно так, да сомнения остаются, и немалые.
Если судить по «языку земли» – географическим названиям, то нетрудно переместиться в поисках прародины руссов далеко на юго-запад от Северной Руси. В среднем течении Дуная имеется целая группа топонимов, производных от «рос» или «рус». Кстати, дружины шведов стали вторгаться в районы, прилегающие к Скандинавии, Балтийскому морю приблизительно с середины первого тысячелетия нашей эры. Для северной и центральной частей Восточной Европы это знаменовало переход к государственности. Для племени россов это – поздние времена.
В книге Г. С. Лебедева приведены карты, из которых следует, что славяне расселялись в северо-восточные районы из предполагаемого центра, расположенного где-то в Северном Полесье. К этому центру ближе Киевская Русь, чем, скажем, Старая Русса (кстати, этот город находится южнее Новгорода, так что и тут названия, вроде бы стареют в направлении к югу). Лингвисты говорят, что славянский язык формировался вдали от высоких гор и морей, в местности болотистой, холмистой, расположенной в зоне смешанных, отчасти широколиственных лесов Европы. А в «Повести временных лет», общерусском летописном своде, подчеркивается, что русский язык относится к славянским.
Все подобные отчасти противоречивые сведения и факты следовало бы учесть, если мы желаем корректно решить поставленную проблему.
Существенно, между прочим, и такое соображение. Почему-то название финское, да еще имеющее, как полагают специалисты, бранный оттенок, закрепилось за могущественным племенем, которое приняло его и со славой пронесло в веках. Что за странное пристрастие к чужому языку? Почему пришлые дружинники (а раз дружина, то уж непременно захват власти силой) решили прозываться не собственным родовым именем, а местным, да еще бранным? К тому же само по себе появление дружин, а значит, князей, привилегированных групп, относится к сравнительно поздним временам начала классового расслоения, государственности. Нас интересуют значительно более древние события в истории племен и народов.
Читать дальше