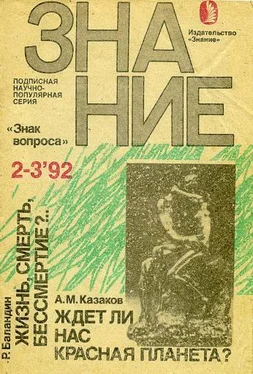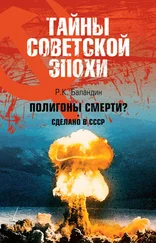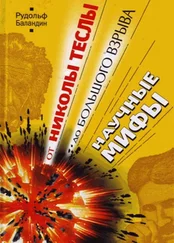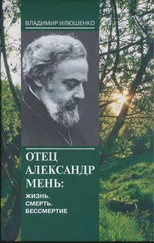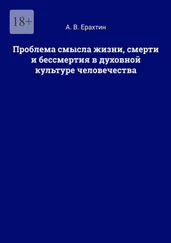Исследуя следы биомолекул в древних осадочных породах ученые установили, что более миллиарда лет назад живые организмы в биохимическом отношении принципиально не отличались от современных. Наиболее просто устроенные виды устойчиво сохранялись на протяжении всей геологической истории. Уже сам этот факт свидетельствует об их совершенстве.
Наконец, пора вспомнить, что простейшие потенциально бессмертны. И в этом тоже проявляется их совершенство.
Допустима, пожалуй, техническая аналогия. Топор или мотыга за многие тысячелетия принципиально не менялись, тогда как компьютеры всего лишь за(полвека проделали стремительную эволюцию: сменилось несколько поколений «умных машин», из которых первые поколения выглядят безнадежно устаревшими и обречены на уничтожение. Сходным образом вымерло множество разновидностей сложных технических систем (самолетов, автомобилей…) при устойчивом существовании простейших приспособлений (крючок, игла, молоток…). В технике быстрее других выбраковываются самые хитроумные, наукоемкие, сложные создания. Нечто подобное происходит и в живой природе.
Выходит, смерть — плата за избыточную сложность, за возможность творческой свободы, а в конечном счете и за разум.
Итак, нормальный кристалл максимально приспособлен к окружающей среде, полностью зависит от нее, ничему (почти?) не обучается и существует — как особь — вне понятий жизни и смерти.
Простейшие организмы достигли совершенства во взаимодействии с окружающей средой, способны быстро приспосабливаться к ее изменениям и преобразовывать ее на благо жизни/Достигнув такой гармонии, они не склонны нарушать ее, осуществляя стратегию сохранения устойчивости, несмотря ни на какие изменения биосферы.
Для сложных многоклеточных организмов с внутренним разделением функций ситуация не столь однозначна. В них сохраняются простейшие молекулярные структуры (гены), обладающие потенциальным бессмертием. В этом смысле и для них можно говорить о непрерывности ткани жизни от начала геологической истории до наших дней. Но как биологический вид или как особь представители таких групп, осуществляющих стратегию творческого поиска новых форм, обречены на смерть.
Царство мертвых и мир живых
Максимилиан Волошин так начал свою замечательную философскую поэму «Путями Каина. Трагедия материальной культуры»:
В начале был мятеж,
Мятеж был против Бога,
И Бог был мятежом.
И все, что есть, началось чрез мятеж.
С удивительной проницательностью поэт выразил мысль, с трудом раскрывающуюся научным методом:
Лишь два пути раскрыты для существ,
Застигнутых в капканах равновесья:
Путь мятежа и путь приспособленья
Мятеж — безумие;
Законы
Природы — неизменны.
Но в борьбе
За правду невозможного
Безумец —
Пресуществляет самого себя.
А приспособившийся замирает
На пройденной ступени…
Что тут поделаешь: мятежность запечатлена в наших генах. Бесспорно, среди людей немало приспособленцев. Они приноравливаются к данной социальной среде — сколь бы уродлива, нечестива, унизительна она ни была. И получают взамен немалые преимущества. Но теряют, быть может, самое главное: способность жить в согласии с мятежной природой существ, устремленных к «правде невозможного».
Поэту близка человеческая, духовная, а не биологическая суть этого разделения всех живущих:
Настало время новых мятежей
И катастроф: падений и безумий.
Благоразумным:
«Возвратитесь в стадо!»
Мятежнику:
«Пересоздай себя!»
Однако следует помнить, что благоразумие не избавляет человека от неизбежности смерти. В этом смысле для всех нас совершенно безразлично, каким образом пройден жизненный путь. Все мы принадлежим к разряду «биологических мятежников».
Религиозные учения обещают верующему бессмертие души в награду за полное послушание. Предполагается, что тот, кто благоразумно выполняет предусмотренные заповеди, угоден Богу и после смерти обретет вечный покой в райских кущах.
Вспомним, Сатана — падший ангел — был жестоко наказан за свое восстание против всемогущего Бога. «Отец кибернетики» Норберт Винер в одной из своих работ писал, что дьявол, с которым борется ученый, — это беспорядок. И принимал позицию религиозного мыслителя Аврелия Августина, видевшего в мире не противостояние добра и зла, а просто определенную долю несовершенства.
Читать дальше