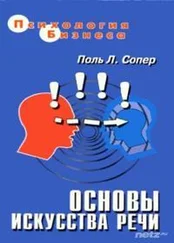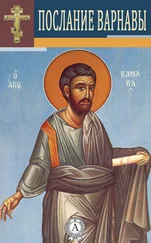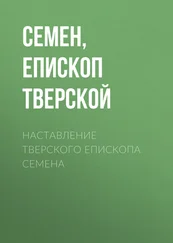Епископ Варнава Беляев - Основы искусства святости. т3
Здесь есть возможность читать онлайн «Епископ Варнава Беляев - Основы искусства святости. т3» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Прочая научная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Основы искусства святости. т3
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Основы искусства святости. т3: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Основы искусства святости. т3»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Основы искусства святости. т3 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Основы искусства святости. т3», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Вот пример. Писатель, давший знаменитую и известную из любого учебника по литературе «Аннибаловскую клятву»* (*См.: Тургенев И. С. Сочинения. Ч. 1. СПб., 1880. Литературные и житейские воспоминания. Вместо вступления. — Аннибаловскую клятву бороться с крепостным правом давали А. Герцен и Н. Огарев (см.: Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 1). — Тургенев заимствует у них это выражение. — Прим, составителя.) бороться с вековым злом России, каковым он видел крепостное право, написавший не менее знаменитые «Записки охотника», со страниц которых будто бы веет любовью к народу, как известно из отзывов
современников, вел себя по отношению к последнему на деле совсем иначе. А. Головачева-Панаева в своих «Воспоминаниях» говорит: «С тех пор как Тургенев получил наследство, он постоянно жаловался, что получает доходов с имения очень мало, и в порыве своих скорбей проговаривался... "Я им не внушаю -99-
никакого страха... Прежде мужик с трепетом шел на барский двор, а теперь
70
лезет смело и разговаривает со мной совершенно запанибрата..."»
71
В. Семенкович , вспоминая о Тургеневе, сообщает: «Мужики его родового Спасского-Лутовинова разорены — и разорены при нем — и своим нищенским наделом, и тем, что при выходе на волю они обрезаны во всех угодьях и им буквально некуда курицы выпустить. Спасские мужики - самые бедные во всем Мценском уезде — это подтвердят все знающие положение».
72
Какой отсюда вывод? — Отвечу словами св. Варсонофия Великого : «Если кто говорит о сладости слов Божиих [в данном случае по поводу добродетели — милости к крепостным], а сам не вкушает ее, то этим он показывает, что она горька. Не горько ли слово это: аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет (Мф. 16, 24)? А если оно сладко, то зачем отвергаем его, желая исполнить свою волю? Кто говорит, что он знает путь, ведущий в какой-либо город, и однако спрашивает о сем пути, тот или презирает его, или, насмехаясь, искушает других. Если же кто знает путь и не хочет идти по нем, то такой подвергается осуждению как весьма нерадивый».
Таким образом, хорошее учение должно подкрепляться хорошей жизнью, потому что добродетель в этом случае ручается за истину и чистоту учения автора. А слава, популярность, похвала от людей — что они значат и стоят? -Ничего. Те же люди, которые сегодня кричали о писателе на всех перекрестках, через некоторое время забудут и о самом имени его. Например, прижизненный успех романов французского писателя Эжена Сю был громадный. Вся страна, от простого лавочника до министра, зачитывалась ими, когда в «Journal des Debats» стали печататься его знаменитые «Парижские тайны», все было забыто: политика, финансы, интриги. Все жили новым номером журнала и, в сущности, сказками, простыми «небылицами в лицах». А сам писатель? Да ему это ничего не стоило. Он без всякого труда мог в один день целый том написать. Он писал легко, без задержки, без помарок, как счет из лавочки. Прошла общественная горячка, пронеслось это своего рода поветрие, род литературной инфлюэнцы, развившейся от бациллы в отравленном демонами мозгу писателя, и — все кончено. Все забыли, перешли на новое. Так и у нас в Рос-100-
сии в свое время, например, нашумела история с «босяками» Горького.
Что же для меня в этой славе убедительного, подтверждающего высоту духа самого писателя и чистоту его идей? И что эти романы сами по себе могут дать обществу для подавления бушующих в нем страстей и приобретения более здравых и глубоких понятий в религии или хотя бы для укрепления чистой непорочной жизни? И течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины, или виноградная лоза смоквы; также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, — говорит апостол (Иак. 3, 11-13). Так, если жизнь писателей не
добра и не благочестива, то мы имеем полное право сомневаться в нравственной ценности и их произведений, как бы блестяще они ни были написаны. А каков был обычный конец их жизни, увидим дальше.
2. Личная жизнь ученого или писателя там, где на нее может лечь какая-нибудь тень и тем повредить его славе и влиянию (читай: дурному) на общество, для широкой публики всячески замалчивается. Ни одного факта из бесчисленного
множества страстей и пороков этих людей не приводится в официальных биографиях, приложенных к их сочинениям. Почему? — Потому что этим «слабостям» нечего противопоставить. Святые же, если и случалось им падать при жизни, умели и каяться (ср. Марию Египетскую), а в биографиях «вождей» человечества как раз страниц о покаянии-то, о последующей добродетельной жизни вы не найдете. В житиях святых (например библейских патриархов) эти слабости нарочно выискиваются и подчеркиваются; если бы их не было, то никто не поверил бы и сверхъестественным добродетелям святых: сказали бы, что это не люди, обремененные плотью, а бесстрастные ангелы. Но теперь, когда Промыслом Божиим показаны их согрешения и падения, мы испытываем:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Основы искусства святости. т3»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Основы искусства святости. т3» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Основы искусства святости. т3» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.


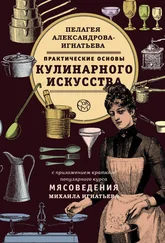
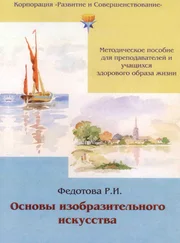
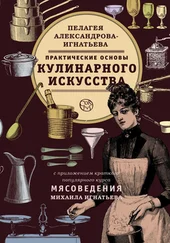
![Варнава Гефсиманский - Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита [Житие, письма, духовные поучения]](/books/394292/varnava-gefsimanskij-prepodobnyj-varnava-starec-g-thumb.webp)