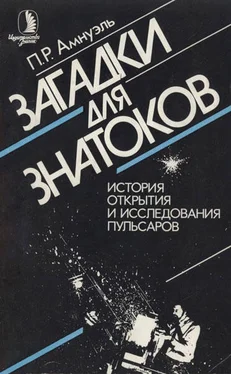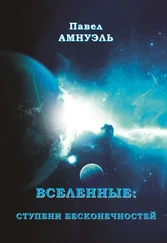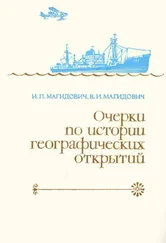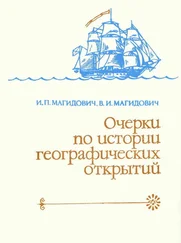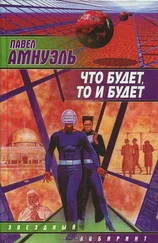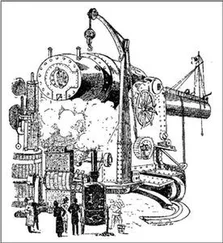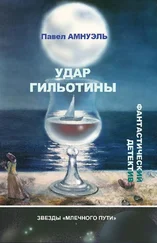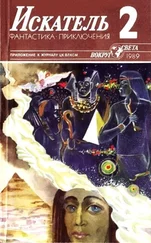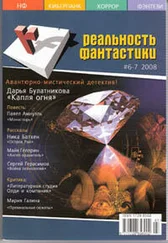Н. А. Умов
Хорош ли на самом деле метод проб и ошибок? Прогрессивен ли? Когда в 1960 году Д. Сендейдж открыл квазары, а М. Шмидт и его коллеги два года спустя получили их спектры, сразу посыпались гипотезы. Сотня гипотез за три года! И почти столько же мучительных ошибок, за каждой — тонны переработанной мыслительной руды, оставшейся в отвалах. В этом наука сродни поэзии и вообще искусству.
Впрочем, не будем романтизировать то, о чем нужно забыть. Муки творчества романтичны, если не тормозят, а подгоняют работу. А пробы тормозят. Ведь ученый ведет поиск не во всех направлениях. Он выбирает какую-то рабочую гипотезу и мысленно перебирает ее варианты. А если неверна сама идея? Пользуясь ею, ученый бодро движется совсем не в том направлении, где лежит решение. Об этом писал еще Декарт три с половиной века назад. «Ведь как путники, в случае, если они обратятся спиною к тому месту, куда стремятся, отдаляются от последнего тем больше, чем дольше и быстрее шагают, так что, хотя и повернут затем на правильную дорогу, однако не так скоро достигнут желаемого места, как если бы вовсе не ходили, — так точно случается с теми, кто пользуется ложными началами: чем более заботятся о последних и чем больше стараются о выведении из них различных следствий, считая себя хорошими философами, тем дальше уходят от познания истины и мудрости».
Сказано хорошо. Если нет надежной рабочей гипотезы, если нет уверенности, что избранная дорога верна, то не лучше ли стоять на месте? Сказать: «Не знаю».
Однако все это не в принципах науки. Ни один ученый не скажет «не знаю», если решил заняться проблемой. Лучше уж он будет идти в противоположном от истины направлении. Темп развития науки в наши дни велик, поле поиска огромно, а метод остался прежним. И ученый вынужден перебирать гипотезы, зачастую не занимаясь их разработкой. Изменился стиль работы. Психолог Г. Селье делит ученых на классиков и романтиков. Классики работают тщательно, романтики скачут от гипотезы к гипотезе. И это не только психологическая особенность, это — требование эпохи. Раньше в поле зрения ученого находился десяток ячеек-гипотез, теперь — сотни и тысячи. Вот и приходится скакать от идеи к идее, но ведь так можно пробежать и мимо верного решения. Это не раз случалось и в расследовании причин явления ярчайших новых.
Снова вернемся к расследованию, с тем чтобы позднее на новом материале поговорить о научных методах.
Трудность заключалась в том, что координаты звезды-гостьи 1054 года на небе точно известны не были. Мы уже говорили о каталоге ярких новых звезд, опубликованном Лундмарком. Поисками упоминаний о таких звездах Лундмарк заинтересовался в 1919 году. Он изучал работы А. Гумбольдта и Ж. Б. Био, вышедшие еще в XIX веке. Это были переводы древних хроник с рассказами о небесных явлениях. Использовал Лундмарк и напечатанные в 1919 году переводы Е. Циннера. Отобранные Лундмарком вспышки были такими яркими, что известный американский астроном X. Шепли заявил: таких новых в принципе быть не может. Конечно, это заблуждение было отголоском проходившего в то время диспута: существуют ли «островные Вселенные». X. Шепли считал, что не существуют. Спор должно было решить наблюдение — на местах очень ярких вспышек предстояло найти то, что от этих вспышек осталось.
И тут-то вкралась опечатка! В списке Лундмарка о звезде-гостье 1054 года было сказано, что она вспыхнула к юго-востоку от звезды η (эта) Тельца. А в примечаниях Лундмарк отметил, что поблизости расположена туманность М 1, именуемая обычно Крабовидной. Однако на это примечание никто не обратил внимания. Естественно: каждый, кто посмотрел бы на карту неба, увидел бы, что туманность М 1 находится вблизи от другой звезды в Тельце. Лишь 17 лет спустя Лундмарк исправил опечатку. Звезда-гостья, написал он, в действительности вспыхнула к юго-востоку от звезды ζ (дзета) Тельца, то есть там, где расположена туманность M 1.
Остаток вспышки звезды-гостьи 1054 года — именно эта туманность! И обнаружено это было бы на полтора десятилетия раньше, если бы не досадная опечатка. Да, после явления звезды-гостьи на небе осталась туманность, а не звезда…
Впервые эту туманность наблюдал в 1731 году английский физик и астроном-любитель Д. Бевис. Он обозначил открытую им туманность на картах звездного неба в атласе «Уранография Британика», который собирался издать. Но издатель вдруг обанкротился, и Д. Бевис умер, не дождавшись публикации атласа. Лишь в 1786 году карты Бевиса (без упоминания его имени) вошли в изданный в Лондоне звездный атлас. К тому времени туманность была заново открыта Ш. Мессье, астрономом при дворе короля Людовика XV. Мессье был прозван ловцом комет. Он искал кометы, стараясь засечь их еще тогда, когда они не обзавелись ярким хвостом и видны лишь в телескопы. Чтобы обезопасить себя от путаницы, Мессье составил каталог «туманных пятен» на небе, которые отличались от слабых комет лишь тем, что в отличие от хвостатых сестер не двигались относительно звезд. Под номером 1 в каталоге Мессье и стояла туманность, открытая Бевисом. Французский астроном к моменту публикации каталога уже знал, что не он первым наблюдал туманность М 1, и воздал должное своему предшественнику. Не будь этого, мы вообще вряд ли узнали бы о том, что был любитель астрономии по имени Бевис…
Читать дальше