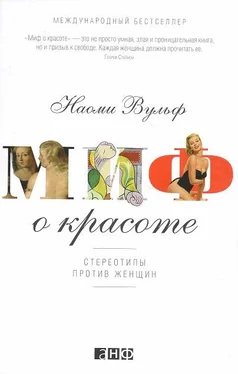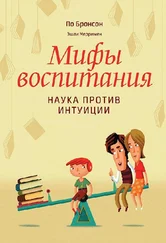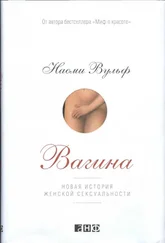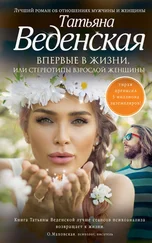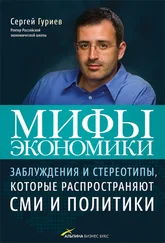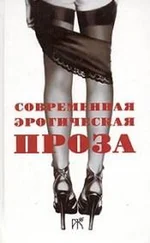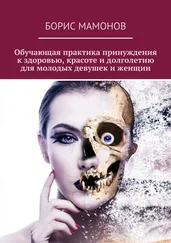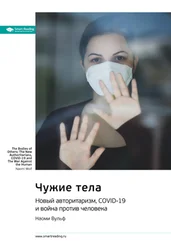С одной стороны, многообещающие заявления женских журналов о том, что женщины могут сами достичь всего, чего захотят, обращены к тем, кому еще совсем недавно говорили, что сами по себе они не могут ничего. С другой стороны, как отмечает социолог Руфь Сайдел, американская мечта в конечном счете защищает статус-кво: «Она не дает людям, находящимся внизу социальной иерархии, здраво воспринять и проанализировать существующую в Америке экономическую и политическую систему [читай: миф о красоте], обвиняя жертв этой системы и заявляя, что, если бы каждый из них старался быть лучше и работал более упорно, он [она] мог бы получить все, о чем мечтает». И точно так же, как американская мечта заставляет страдать мужчин, так миф о том, что красоты можно добиться, даже нарушая законы природы, травмирует женщин.
Итак, переход завершен, и теперь, идя к осуществлению своей мечты, женщины вынуждены балансировать между своими желаниями и самоуважением, а также необходимостью четко соответствовать ущемляющим их права требованиям. За ошибки системы они расплачиваются в одиночестве.
Обычно рабочая сила реагирует на неразумные и чрезмерные требования работодателей куда более бурно, но женщины покорно приняли требование отвечать «профессиональной квалификации красоты». Причиной тому — еще не изжитое чувство вины: для более удачливых женщин-профессионалов это может быть чувство вины за факт обладания властью или за «эгоистичное» желание выполнять творческую работу. А значительное большинство, которому мало платят и которое в одиночку или совместно с мужьями обеспечивает своих детей, чувствует вину за неспособность обеспечивать их лучше. ПКК усиливает и другие традиционные женские страхи: у представительниц среднего класса, которых еще недавно ценили исключительно за готовность сидеть дома, жизнь вне дома — в обществе, на работе—вызывает смутное беспокойство. Ведь они становятся объектами пристального внимания со стороны общества, чего их мамы и бабушки чрезвычайно боялись. Кроме того, работающие женщины всегда подвергались жестокой эксплуатации, а «красота» позволяет избежать этого. Наконец, женщины из всех слоев общества знают, что их успех не приветствуется и даже наказывается и что у очень немногих представительниц их пола когда-либо была возможность распоряжаться большими деньгами.
Привыкнув воспринимать красоту как богатство, женщины оказались внутренне готовы признать систему прямого финансового вознаграждения, которая заменила систему косвенного вознаграждения, существовавшую на рынке невест. В сущности, приравнивание понятия красоты к понятию денег обещает женщинам получение с помощью внешности всего того, что достается мужчинам с помощью кошелька. Очень быстро женщины поняли, что противостоять существующей «меритократической» системе поодиночке им не по силам. И при этом, с одной стороны, женщинам хотелось, чтобы другие увидели и оценили, сколько труда, таланта и денег им пришлось вложить в создание своего имиджа. А с другой стороны, в условиях однообразной и далеко не гламурной работы, которую выполняло большинство женщин, ПКК вносила толику креативности, радости и гордости собой в деятельность, которая сама по себе этого не предполагала.
Итак, в 1980-е красота стала играть для женщин ту роль, которую для мужчин выполняют деньги, обеспечивая положение в обществе и служа защитой от конкурентов. Однако, придерживаясь такой упрощенной системы ценностей, в которой полученных результатов никогда не бывает достаточно, люди быстро теряют связь с реальными жизненными ценностями. Те цели, ради которых стоит стремиться к деньгам, — возможность покупать комфорт и удовольствия — оказались в это десятилетие забыты ради погони за успехом во имя самого успеха. И то же произошло в борьбе за «красоту»: все, что раньше представлялось ее целью — секс, любовь, близость, самовыражение, — было потеряно из виду и отошло в область воспоминаний.
Подноготная ПКК
Откуда взялась ПКК? Как и миф о красоте, она развивалась рука об руку с женской эмансипацией, чтобы отравить женщинам радость от долгожданного получения прав и свобод в их профессиональной деятельности. Она распространялась параллельно с процессом занятия женщинами рабочих мест, проникая из больших городов Америки и Западной Европы в городки поменьше, из промышленно развитых стран «первого мира» в развивающиеся страны «третьего мира», с запада на восток. С поднятием железного занавеса она охватила и страны Восточного блока. Но ее эпицентром был и остается Манхэттен, где сконцентрировано больше всего женщин, поднявшихся в своих профессиях на самые высокие ступени иерархической лестницы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу