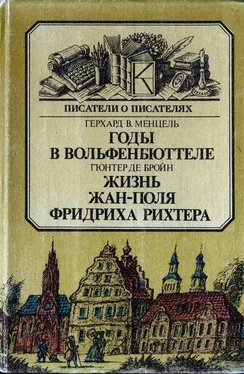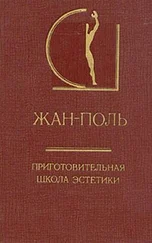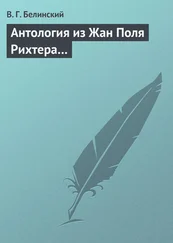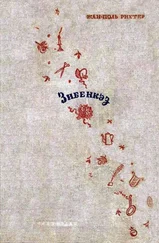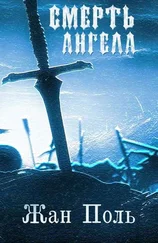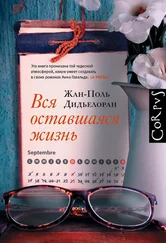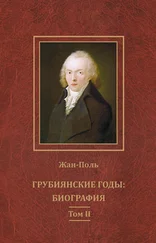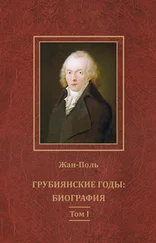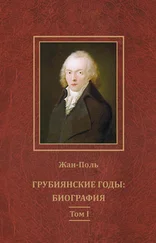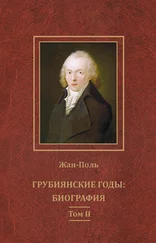Но изучает он все-таки — само собой разумеется — теологию; правда, изучает ее так, как Лессинг или как Гёте изучал юриспруденцию, — номинально, между делом. Его теологические интересы все больше и больше вытесняются философскими, помимо того, он по-прежнему испытывает огромную тягу к другим наукам. Наряду с «деяниями апостолов» он слушает курс логики, метафизики, этики, эстетики, английского и тригонометрии, совершенствуется во французском языке. Но числится теологом, и среди них он не единственный, кто голодает. Теология — наука бедняков. Только как теолог он может надеяться, что его освободят от платы за зачисление в университет и за лекции, предоставят стипендию и бесплатный стол; и только окончив этот курс, он, если будет достаточно прилежен и покладист, может рассчитывать на должность. Для простолюдина теология не наука о божественном, а единственный способ, приобретя знания, преуспеть в жизни. Феодальное общество накануне гибели, ему нужна целая армия тех, кто деятельно поддерживает его идеологию, и оно вербует их во всех слоях.
Но истинные познания Рихтер по-прежнему черпает из книг. Он почти не покидает студенческую каморку. Он по-прежнему получает книжные посылки из Рехау и сам посылает книги туда, сопровождая их своими комментариями. Он уже больше наставляет пастора Фогеля, чем получает наставления от него. И пастор признает это. «Когда-нибудь у Вас будет больше заслуг передо мной, нежели сейчас у меня перед Вами», — пишет он юноше, давая новую пищу его уверенности в себе. Рихтер посылает ему в благодарность библиографические списки из Лейпцига — города книг. Он внимательно штудирует каталоги книжных ярмарок и отмечает в них важные новинки. «К ярмарке выйдут разные примечательные книги. Кантовская „Критика разума“; она остроумна, свободна и мудра», В одном из писем к Фогелю он признается в «душевном наслаждении», которое доставляет ему наука.
Он и раньше знал, что в университете его по-прежнему будут учить главным образом книги. В «Абеляре и Элоизе» написано: «И вот я наконец здесь, в университете! И что же? Я проедаю деньги, которые мог бы употребить лучше, забываю то, что знал, и изучаю предметы, которые мне ни к чему… То, что мне имеют сказать все эти профессора, я могу лучше — основательнее и с меньшей потерей времени и денег — узнать из книг. Но обучать так начали еще в давние темные времена, когда писали мало книг, и чтобы набраться разума, приходилось слушать. А теперь, коль скоро это стало модой, изменить обычай почитается за грех; у людей есть книги, они слушают профессоров, но дурак так дураком и остается».
Лишь однажды, когда Рихтер учился в Лейпциге, ему показалось, что один профессор смог бы оторвать его от книг. Это был Эрнст Платнер, философ, скорее мастер афоризма, нежели автор системы, превосходный оратор, он захватил его своим обаянием. Платнер — последователь Лейбница, так же как и Жан-Поль в ту пору, и его опубликованные афоризмы воплощают эту философию «наисочнейшим образом». Его прославленные лекции по эстетике (никогда не напечатанные и известные только по записям одного студента, которые были найдены в начале нынешнего века в лейпцигской букинистической лавке) соответствуют художественным взглядам эпохи и производят на Рихтера сильнейшее впечатление. Платнер утверждал: источник всякого искусства — восприимчивость художника; он требовал от искусства современного политического духа, национального самосознания и социально-критической сатиры. Не удивительно, что он часто — и это особенно привлекает Рихтера — конфликтует с консисторией в Дрездене — духовным ведомством саксонских высших школ. Разумеется, его обвиняют не в самостоятельности мышления, а во враждебном отношении к религии и в материализме — совершенная бессмыслица, по мнению Рихтера. «Но это консистория, и как таковая она имеет наибольшее право благостно совершать глупости и благочестиво творить зло».
К слушателям Платнера принадлежит и Николай Михайлович Карамзин. В «Письмах русского путешественника» он рисует картину всеобщего воодушевления: «Ныне поутру слышал я эстетическую лекцию доктора Платнера… Превеликая зала была наполнена слушателями, так что негде было упасть яблоку. Я должен был остановиться в дверях. Платнер говорил уже на кафедре. Все молчало и слушало… Он говорил… о гении… так свободно, как бы в своем кабинете, и очень приятно… Сказывают, что лейпцигские студенты никого из профессоров так не любят и не почитают, как его. — Когда он сошел с кафедры, то ему, как царю, дали просторную дорогу до самых дверей».
Читать дальше