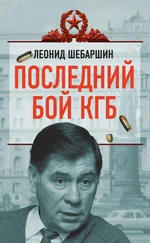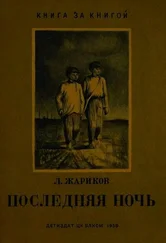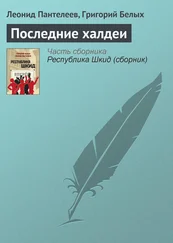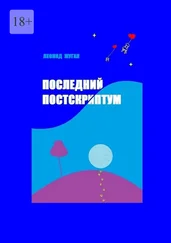Легко представить ярость Удриса, когда он читал заключение следователя, предлагавшего столь мягкое наказание матросам. Его неистовое негодование вылилось в резолюции, начертанной им зло, крупно и витиевато на заключении следователя:
"За халатное отношение к службе, невыполнение приказа комотряда и внесение в отряд дезорганизации — обоих расстрелять'.
21 декабря 1920 г. вместе с очередной группой жертв террора окровавленные тела Старокожко и Андросюка были свалены в ту же яму, куда 19 декабря они собирались отправить неизвестного.
Подобных случаев побега обреченных было не так уж много. Побеги, да еще смертников, всегда были чрезвычайным происшествием. Они объяснялись слабостью режима их содержания, отсутствием внутрика-мерной агентурной разработки, недостаточной квалификацией охранников, нарушениями должной дисциплины и пролетарской бдительности и влекли за собой определенные оргвыводы для начальствующего состава команд. Поэтому еще в годы гражданской войны факты побегов заключенных и иных неприятных случаев пытались скрьггь от высшего начальства. Чтобы не “портить статистику”, случаи побега старались не оформлять документально. Возможно, что небольшое количество архивных дел о побегах объясняется именно этими причинами.
Примеры расправы с беглыми военнопленными свидетельствуют о грубом нарушении норм международного гуманитарного права. Так, статья 8 Гаагской конвенции от 5 октября 1907 г. предусматривает:
'Лица, бежавшие из плена ...подлежат дисциплинарным взысканиям (о не уголовным. — Авт.). Военнопленные, удачно совершившие побег и вновь взя-
т
тые в плен, не подлежат никакому взысканию за свой прежний побег' 149 149 Дипломатический словарь. — М., 1971. — Т. 1. — С. 359-361; Международное право в избранных документах. — Т. 3. — С. 275-276.
.
Но если пленных, покорно склонивших головы перед победителями и терпеливо ожидавших решения своей участи, расстреливали в массовом порядке, то что уж говорить о беглецах. Победитель, как справедливо говорили древние, — худший из господ, напыщенный, тщеславный и упорный противник милосердия.
Какова дальнейшая судьба беглецов, никто не знает. Если они не смогли выехать за границу, то, скорее всего, поменяли фамилии, города, где их знают, весь свой облик, манеру поведения, профессию и жили в постоянном страхе, ожидая каждую минуту опознания и ареста.
Именно такая судьба постигла некоего Александра Пахомовича, с которым в 1950 или в 1951 г. довелось познакомиться мне и моим сверстникам в Макеевке. Для нас, молодых рабочих, детей войны с 5~6-классным образованием, бегающих по вечерам (иногда) в так называемую школу рабочей молодежи, он был настоящей интеллектуальной находкой. Хромой и загадочный дед “Пахомыч" работал в своей будке (рундуке) сапожником, куда мы часто заглядывали. Он рассказывал нам о громадах гор, расчесывающих тучи, горных ущельях, скалах, искрящихся при закате, о невиданном нами море. Ярко рисовал его безбрежные просторы и неустанные перекаты волн — то высоких, сердитьк, способных разбить скалы, то тихих, ласковых, что нежно набегают на галечный берег, однообразно шурша камушками. Обычно море чарует каждого, кто его видит, его просторы словно свидетельствуют о вечности природы и показывают ничтожество всех наших забот, увлечений, несчастий и неудач. Его величие восстанавливает в душе человека равновесие, придает ему новые силы, вселяет надежду и уверенность в будущее.
Среди удушающего дыма макеевских заводов, закоптелых домов и чахлых деревьев, дымящих терриконов, грязи и пыли представленные Пахомычем картины казались фантастическими и вызывали недоверие. Поэтому у каждого из нас невольно появилась мечта побывать где-то там, в Крыму, самому увидеть и убедиться в том, что на свете существует не только “всесоюзная кочегарка", как называли иногда Донбасс, но и тот восхитительный край, о котором с таким вдохновением поведал нам дед Пахомыч. Его речь также удивляла нас своей последовательностью, убедительностью, простотой и красочностью изложения. Казалось, что он не просто рассказывает, а читает книгу. Сравнения в его рассказах были без излишнего нагромождения, целесообразны и уместны. Он декламировал множество стихов поэтов, о которых мы никогда не слышали. Помню один небольшой отрывок:
Jlo6ez
Дикою, грозною ласкою полны.
Бьют в наш корабль средиземные волны...
Много земель я оставил за мною.
Вынес я много смятенной душой...
Читать дальше