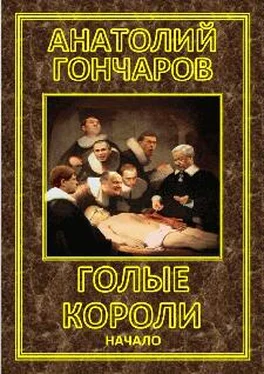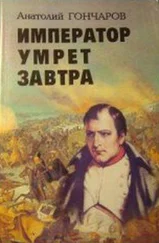Все ждали режиссера. Мастер без царя в голове пронесся мимо уставших поколений - не то вдохновение утратил, не то мобильник где-то оставил.
«Настроение хорошее, - внушал самому себе Николай I. - Хорошее настроение...» И отправился перекурить с Антоном Ивановичем Деникиным. «Здесь не ходим! - кричали им декабристы.
- Здесь не ходим!..
Кто видел сегодня Пушкина?..»
Пушкина никто не видел. Видели нетрезвого Дантеса - заманивал куда-то ея величество Елизавету Петровну: «Ступай сюда, барышня Коньячку хочешь?..» хочет лейтенант Шмидт, но ему не наливают, довольно с него и спирта.
В полуигровом фильме Сокурова перемешаны все исторические эпохи, собранные под крышу Эрмитажа с целью явить миру средоточие духовного и культурного величия. Главный герой, гомосексуалист и русофоб, маркиз Астольф де Кюстин в компании с таким же соглядатаем пробежал, по замыслу мастера, не только сквозь российские пространства, но и сквозь века - от Петра Великого до Владимира Путина. Все - карикатура. Тоже и Шмидт. Ильф и Петров знали, с кого писать безобидных своих жуликов, только боялись в том признаться. Лед тронулся не у Марлена Хуциева и даже не у сына «турецкоподданного», а много раньше. И не в ту сторону, куда смотрел Пастернак: «Над крейсером взвился сигнал: командую флотом. Шмидт». Впрочем, Пастернак, кажется, тоже догадывался.
Симфония удачи Шостаковича трубит финал: в Петровском зале директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встречается со своим покойным отцом и предшественником Борисом Пиотровским и задает ему совершенно неожиданный вопрос: что делать?..
Имя и вещь
О том, что Пастернак догадывался или даже точно знал, кто такой на самом деле герой Черноморского восстания лейтенант Шмидт, легко понять из писем самого Пастернака. Вот сугубо конъюнктурное послание Горькому: «Когда я писал «1905-й год», я как-то все время с Вами считался. И слова Ваши о «Годе» меня осчастливили». А вот фрагмент письма Константину Федину: «Когда я писал «1905-й год», то на эту относительную пошлятину я шел сознательно, из добровольной идеальной сделки со временем». Сделка имела место, факт. Густо собрав авансы в издательствах и редакциях, Пастернак навалял «Лейтенанта Шмидта», а за ним и завершавшего трилогию «Спекторского». И снова обратился с письмом к Горькому: «Где была бы правда революции, если бы в русской истории не было Вас, дорогой Алексей Максимович?..»
И правда, где? На крейсере «Очаков» ее не было. Там была элементарная кража казенных денег. И суд офицерской чести. Позорное пятно на истории российского флота. Пятно замыли, образ корабельного казнокрада отлили в бронзе - в назидание поколениям новых героев воровских поприщ. 38-летнего Петра Шмидта, торгового капитана, призванного на службу во время русско-японской войны, не знали куда деть, чтобы не наломал дров. Дураком был непереносимым. Назначили на тихо гниющий в ремонте, полуразобранный крейсер «Очаков». Боевых впечатлений масса. Пастернак подтверждает: «Ура навеки, наповал, навзрыд!..» Судовую казну лейтенант Шмидт тоже - навеки, наповал. Девицы - навзрыд от его щедрости. Квартиру снял приличную, на велосипедах катался, кутил и сорил деньгами. Но и по отношению к матросам тоже являл меру командирского милосердия. Пьешь спирт, братец, так отойди подальше, не дыши в лицо, ступай лучше отдохни: «Пройдя в столовую и уши навострив, матрос подумал: «Хорошо у Шмидта».И было хорошо до тех пор, пока ревизия не обнаружила, что денежный ящик пуст. Ни даже мышиного помета. Кто за него отвечает? Лично командир. Чем объясняет пропажу денег лейтенант Шмидт? Стечением невыясненных обстоятельств. Катался по городу на велосипеде, а кассу держал при себе, в портфеле. Для пущей сохранности. С той же целью повесил портфель на руль Покатался, глянул - руль на месте, портфеля нет.
Стали выяснять, когда в судовой кассе последний раз деньги были. Оказалось, еще перед поездкой к любовнице в Киев. Девица чудо как хороша была. Священные реликвии Любви, дорогие сердцу письма лежали в том же портфеле, поскольку, как уверял Шмидт, он ни за что не расстался бы с ними. Это и выдвигалось им как аргумент в пользу версии о случайной пропаже казны. Письма ведь дороже денег, а их тоже нет, господа. Святой человек! Пастернак проникся сочувствием: «Полюбив даже вора, как не рвануться к нему в каземат в дни, когда всюду только и спору - нынче его или завтра казнят?» Никто, между прочим, не рвался. Брезговали.
Читать дальше