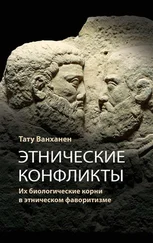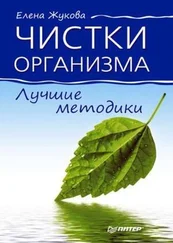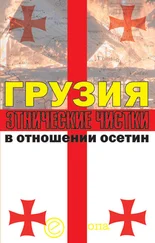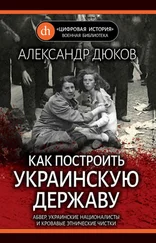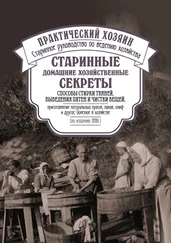В 1918 году Грузия провозгласила независимость, и Южная Осетия, с 1774 года входившая в состав России, оказалась в опасном положении. Тогда, как и в 1989 году, Южная Осетия сделала выбор в пользу России, этим и объяснялась ориентация на большевиков – только так можно было добиться объединения с Северной Осетией в составе России. Как и в 1989-м, Южная Осетия стала для России рычагом воздействия на грузинский сепаратизм, а меньшевистское грузинское руководство гораздо меньше, чем сейчас, собиралось искать мирный способ договориться с южными осетинами. В 1920 году, после провозглашения советской власти в Южной Осетии, грузинское меньшевистское правительство направило против осетин всю свою регулярную армию. Десятки тысяч людей были изгнаны из своих домов, села превращены в пепел, тысячи мирных людей были убиты, более 5 тысяч осетин погибли во время бегства от карателей при переходе через перевалы в Северную Осетию от холода, голода, тифа и туберкулеза. Более трех тысяч крестьянских хозяйств было сожжено. После установления советской власти в Грузии специально образованная комиссия на правительственном уровне определила общий материальный ущерб, нанесенный Южной Осетии грузинской карательной экспедицией, в денежном выражении он составлял 3 317 516 рублей золотом. Тысячи изгнанных осели в Северной Осетии.
«Осетия должна иметь у себя ту власть, которую она хочет», – сказал Наркоминдел РСФСР Г. Чичерин в ноте меньшевистскому правительству Грузии в ответ на события в Южной Осетии. Увы, дело было совсем не в том, что совершен геноцид против народа, стремившегося в состав России. «…Ту власть, которую она хочет» означало власть, которую хочет Россия и которую поддержал народ, верный России при любой власти. После установления советской власти в Грузии юг Осетии был искусственно, волевым путем передан в состав Советской Грузии, той Грузии, которая два года истребляла осетин под лозунгом «В Грузии есть осетины, но нет Осетии!» В 1922 году была создана Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии. Север Осетии остался в РСФСР. Осетия оказалась рассеченной на две автономии в составе двух союзных республик. Почва для следующего геноцида была заложена.
Ницше сказал, что северный ветер создал викингов. Возможно, десятилетия сопротивления политике ассимиляции, проводимой грузинским руководством, выработали своеобразный иммунитет у южных осетин, не желавших растворяться в чуждой среде. Мысль о воссоединении с Северной Осетией не оставляла южан, несмотря на то что «крамольные» требования жестоко карались советской властью. Дважды в 1925 году этот вопрос ставился перед Сталиным представителями Юго-Осетинской и СевероОсетинской автономных областей. Ответом Сталина на просьбу соотечественников были жестокие репрессии – члены этих делегаций были в конечном итоге расстреляны. Тем не менее вопрос о воссоединении с Северной Осетией и позднее, в 40-е годы во время войны, и в 50-60-е годы во время хрущевской оттепели, неоднократно поднимался южными осетинами. Изменить иерархическую структуру подчинения одних народов другим малочисленным осетинам было не под силу. Эта фраза об иерархическом устройстве Советского государства была ключевой в выступлениях Алана Чочиева, лидера движения «Адамон ныхас» («Народное вече»), возникшего в Цхинвале в 1988 году, после того как Грузия заявила о своем выходе из состава Союза.
Центр делегировал народам лимитированное количество прав в зависимости от их численности в Союзе. Это обрекало малые народы на постоянную роль младших братьев, что непосредственно отражалось на их уровне жизни – экономической и культурной. Численность населения Южной Осетии сокращалась: миграция росла, рождаемость снижалась. С довоенных 107 тысяч человек население сократилось до 98 тысяч в 1989 году. При этом доля осетин в общей численности населения Грузинской ССР снижалась, а доля грузин увеличивалась. Уровень жизни в автономной области оказался в 2–2,5 раза ниже среднереспубликанского.
Данные из книги известнейших югоосетинских историков Гаглойты Ю. С., Джиоева М. К., Джусойты Н. Г., Пухаева К.П., Техова Б. В., Чибирова Л. А. «Из истории осетино-грузинских взаимоотношений», вышедшей в Цхинвале в 1995 году, говорят о том, что Юго-Осетинская автономная область стала аграрно-сырьевым придатком Грузии. На промышленное строительство в Южной Осетии республика отпускала мизерные средства. В 1947 году решением союзных властей в Цхинвал из Вены было завезено оборудование репарационного авторемонтного завода. В 1948 году завод дал солидную прибыль народному хозяйству области, выполнив задание на 315 % (!), но в 1950 году завод был передислоцирован в Кутаиси. В отдельные годы под различными предлогами были закрыты Джалабетский и Чурисхевский лесопильные заводы, прекращены разработки месторождения нефти в Громе. На десять лет растягивалось предусмотренное решением Совета Министров СССР строительство мясокомбината и хлебозавода, в то время как в Грузии подобные заводы строились в течение года. Та же политика проводилась в аграрном секторе, где руководством Грузинской ССР назначался план сбора урожая с площадей, превышающих площади имеющихся пахотных земель. Колхозы были вынуждены распахивать сельские пастбища, чтобы выполнить план. Нехватка кормов вызывала падеж и сокращение количества скота. Многие регионы с богатыми животноводческими традициями стали бескоровными. Приходилось закупать скот на стороне, чтобы выполнять плановые задания по сдаче мяса. Горным районам Южной Осетии, где никогда не росла пшеница, устанавливался план по сдаче зерна. О недостатках советского планового хозяйства говорить не приходится, однако для соседних с Южной Осетией районов Грузии устанавливались вполне достижимые требования в области сельского хозяйства – с показателями в 3–4 раза меньше. Экономическая дискриминация крестьянства вела к нищете сельских жителей и полному разорению аграрного сектора области.
Читать дальше
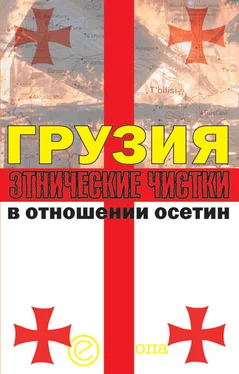
![Ольга Комарова - Грузия [Рассказы]](/books/29030/olga-komarova-gruziya-rasskazy-thumb.webp)