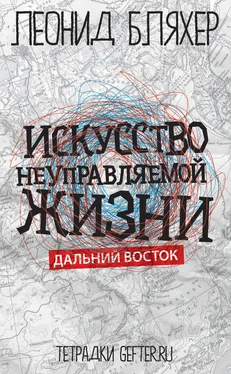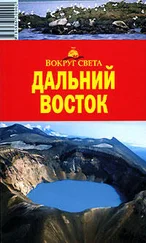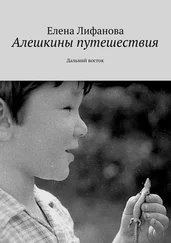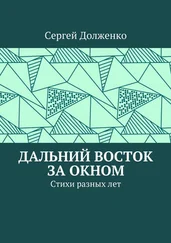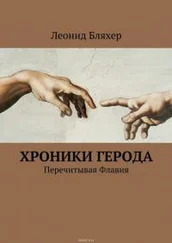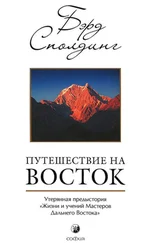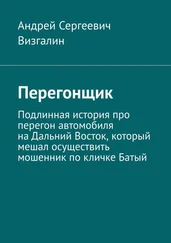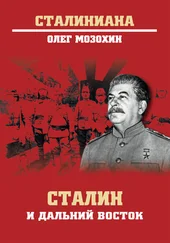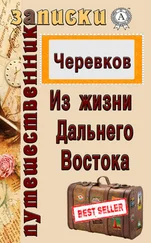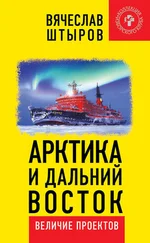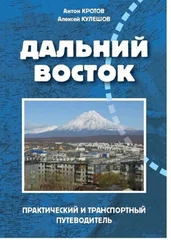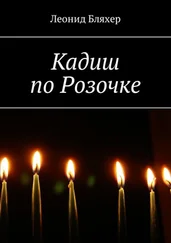Более того, заработанные в ходе торгово-промышленных операций средства в ряде случаев вкладываются не в новый хозяйственный цикл, а в земельные ренты, несколько менее доходные, вливаясь в традиционные формы хозяйствования. Таким образом, богатство, хотя пока и не вполне явно, оказывается социальным лифтом, способным качественно изменить статус его обладателя.
Несмотря на уникальность итальянского опыта, определенное взаимопроникновение аристократии, крови и денег мы можем обнаружить, пусть в меньшем масштабе, и во Франции, Испании, Англии. Знаменитые английские огораживания и французские откупа тоже были формой такого взаимопроникновения. Однако между Севером и Югом имелось и принципиальное отличие. Население южных городов не создавало новых статусов и не стремилось присвоить статусную структуру дворянства. Воспроизводилась традиционная цеховая структура с присущим ей набором статусов. Если же городской патриций оказывался достаточно сильным, он «вливался» в дворянство. То есть само по себе богатство еще не являлось источником статуса, но лишь позволяло его приобрести.
На Севере дело обстояло сложнее. Новый предприниматель, связанный с «мировыми» рынками, был сильнее цеха, но не дотягивал до уровня венецианского или даже гамбургского патриция, способного влиться в дворянство. Не менее важным было и то, что его деятельность в минимальной степени регулировалась местным сообществом. Он не занимал в нем какой-либо статусной позиции и не стремился его возглавить.
Он ломал или игнорировал его, ориентируясь на иные территориально– хозяйственные объединения и связи. Не случайно так негативно воспринимались владельцы мануфактур представителями традиционной цеховой верхушки. В результате купец или мануфактурщик (суконщик) не мог приобщиться ни к одной из существовавших в тот период статусных шкал, повисая в безвоздушном пространстве и тем самым лишаясь «социальной видимости», жизненного мира, возможности повседневной коммуникации.
Его коммуникация ограничивалась сугубо профессиональной, то есть технической. Он оказывался Робинзоном Крузо, даже не попадая на необитаемый остров. Но именно это его положение создавало в конечном итоге ресурс, позволявший обществу воспроизводить себя. Мануфактура и международная торговля становились средством не только личного обогащения, но и выживания общества. Богатея, новый предприниматель обеспечивал «работу тысячам», в то время как все остальные формы хозяйствования в лучшем случае поддерживали существование самих работников при минимальном уровне изъятия.
Но, являясь совершенно необходимыми для общества, новые предприниматели попадали в коммуникативную ловушку. Профессиональная коммуникация и коммуникация социальная существовали для них в непересекающихся пространствах. Не случайно в документах той эпохи купцы, промышленники чаще всего представали странными либо даже враждебными «добрым людям» персонажами. В ходе профессиональной коммуникации они обретали средства к существованию и давали их другим. Для обретения статуса, видимости и понятности для других требовалась социальная коммуникация. Однако поскольку новые слои тратили все свои силы на хозяйственную деятельность, на социальные контакты их просто не оставалось.
Чтобы преодолеть собственную бесстатусность, предприниматель должен был… прекратить предпринимательскую деятельность или, по крайней мере, резко ее ограничить. В период появившегося досуга он мог, используя финансовый ресурс, вписаться в одну из имеющихся иерархий. Но этот путь был доступен для меньшинства. Ведь, прекратив деятельность, предприниматель лишался этого ресурса, одновременно лишая ресурса (налогов, рабочих мест) и общество.
Невозможность без потерь остановить производственный цикл и без его остановки вписать предпринимателей в существующую статусную иерархию постепенно превратилась в одну из серьезнейших проблем, стоявших перед «северными обществами». Удачные попытки организовать «союзы суконщиков» или «купцов-авантюристов» по типу старших цехов во Флоренции были немногочисленны.
Слишком большáя часть данных обществ была задействована в процессе жизнеобеспечения, чтобы эти люди пребывали в положении социальных невидимок, маргиналов. Слишком много времени им приходилось посвящать хозяйственной деятельности, чтобы они могли «вписаться» в какую-то иную систему отношений, кроме производственных. Соответственно, необходимо было ценностно и статусно нагрузить то, что прежде было нагружено лишь функционально. Выходом стала описанная выше «матрица» конвертации богатства в статус.
Читать дальше