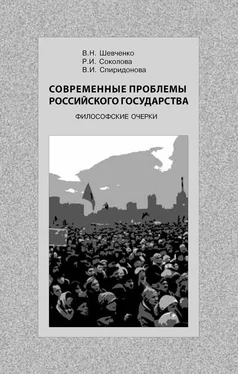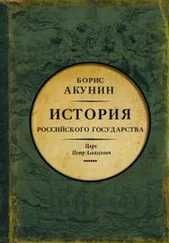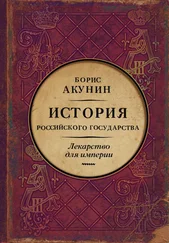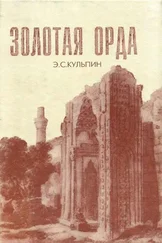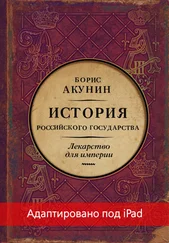Как замечают некоторые западные исследователи, декларированная идея общего блага оказалась в резком противоречии с реальными результатами новой политики США после окончания холодной войны. В одном из докладов на международной конференции «Общее благо как политический ответ глобализации», прошедшей в 2001 г. в Канаде, один из выступающих заметил, что военные интервенции последних лет приблизили мир вовсе не к трансгосударственному объединению на основе идеи общего блага, а к объединению государственных интересов вокруг идеи роста общих рисков [57] David Ch.-Ph. La Mondialisation de la securite: espoir ou leurre? // http://www.dipk>-matie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001391.pdf
.
Одновременно отмечается размытость современной трактовки «мирового общего блага», которая возрастает по мере победного шествия шестого технологического уклада, осваивающего новые технологии коммуникаций. В текстах так называемого «инновационного» направления под термином «мировое общее благо» подразумевается, например, интеллектуальная собственность, основанная главным образом на интернет-ресурсах [58] Giffard A. Distinguer bien commun et bien(s) commun(s) // http://alaingiffard.blogs. com/culture/2005/01/bien_commun_et_.html
. Эклектизм доходит до того, что к разновидности общего блага сегодня причисляют даже европейский синдикализм и европейское правительство [59] Ibid.
. (При такой интерпретации, кстати, становится понятной логика присвоения нобелевской премии мира за 2012 г. Европейскому экономическому сообществу.) Указанные прагматические ракурсы интерпретации подтверждают тезис о том, что высший предельный смысл общего блага в западной мысли основательно забыт.
Особенности российской интерпретации общего блага
Сегодня Россия произвела «трансляцию либерального проекта», и это, безусловно, ставит ее перед определенными обязательствами. Ведь если мы принимаем этот проект, мы должны принимать выводы и следствия, которые из него вытекают. В частности, мы должны подчиниться требованиям «рационализации» использования наших природных ресурсов на благо «мирового сообщества», т.е. в первую очередь стран, которые его возглавляют. Или же предложить свой, иной проект, исходя из российской интерпретации общего блага, которая базируется на иных принципах.
В самом деле, если современная либеральная доктрина фактически отказалась от идеи общего блага как системообразующей для государства, то в истории русской мысли устойчива традиция возвышения, трансцендентализации понятия общего блага, желание придать ему смысл абсолютного, верховного качества. Существование государства на протяжении всей российской истории оправдывалось не общественным договором, а именно тем, что государство рассматривалось как единственная инстанция, которая способна и должна стремиться к реализации общего блага. Здесь были единодушны мыслители всех идеологических течений. Для либерального консерватора П.Б. Струве служение общему благу синонимично служению «национальному духу» [60] Струве П.Б. В чем же истинный национализм? // Струве П.Б. Избранные сочинения. М., 1999. С. 15.
. Вл. Соловьев, известный своими европейскими симпатиями, считал, что только ориентация государства на исполнение высших духовных задач общества может действительно реализовать благо индивида. Первой ступенью «благого» состояния общества он называл экономическое общество, второй – политическое, третьей – духовное. Первые два он признавал неудовлетворительными для реализации воли человека к благу. Благо, заключал он, «определяется такими началами, которые находятся за пределами как природного, так и человеческого мира, и только такое общество, которое основывается непосредственно на отношении к этим трансцендентным началам, может иметь своей прямой задачей благо человека в его целости и абсолютности» [61] Соловьев В. Сочинения в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 148-149.
. Наконец, и российские либералы-западники, представители школы естественного права, такие как Б.А. Кистяковский, писали, что государство приобретает нравственный авторитет, действуя в соответствии с нравственным законом в интересах общего блага [62] Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 427.
. Сегодня эта ситуация, к сожалению, сохраняется лишь в той ее части, которая связана с требованиями общества по отношению к власти, требованиями ответственности власти. Но они, эти требования, есть и становятся все настойчивее.
Понятно, что в такой ситуации не могло произойти замещения понятия общего блага сакрализацией закона. Это наверно и очевидно плохо с точки зрения выстраивания правового состояния общества. И это надо исправлять. Но, как во всякой плохой ситуации, здесь отыскивается плюс, а принимая во внимание современную новую апелляцию к общему благу, весьма существенный плюс. Нужно напомнить о том, что в отсутствии утилитарного правового механизма в российском обществе его компенсировал на протяжении всей истории такой специфический российский социальный феномен, как служение. А это явление высокоидейного, духовного, этического свойства. Служение непосредственно сопрягалось с понятием общего блага. Действительно, в условиях недооценки роли закона в общественном сознании, служение было единственным реальным инструментом реализации общего блага. Именно в этих терминах интерпретировалась ответственность верховной власти перед народом, а также и других слоев общества. Идея служения воспринималась как высшее духовное призвание, причем не только «государевых слуг» по должности, но как неотъемлемый моральный долг всех и каждого [63] Санъкова С. Либеральный консерватизм как неотъемлемая составляющая государственного национализма //www.conservatism. narod. Ru 08.11.2004.
.
Читать дальше