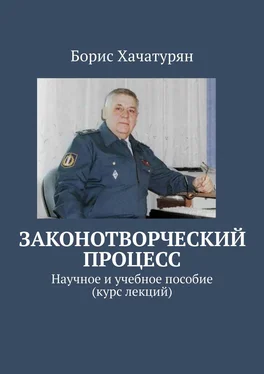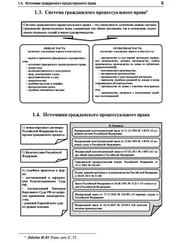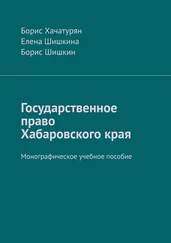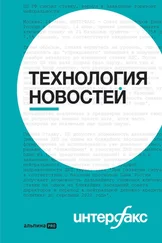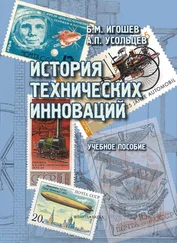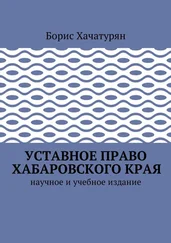Тогда же в Петербурге состоялся общеимперский съезд представителей местного самоуправления – земств. Сто наиболее влиятельных и активных земцев относились с неприязнью к лозунгу Учредительного собрания. Четыре дня в октябре земцы бурно требовали от правительства закона о правах личности и созыва представительного, выборного от населения, органа власти. Съезду земцев сопутствовала так называемая «банкетная кампания», в ходе которой представители интеллигентных профессий – врачи, адвокаты, журналисты, юристы, инженеры и т. д. – собираясь чаше всего по ресторанам, произносили речи; некоторые из них заканчивались лозунгом: «Да здравствует конституция!». Более 50 тыс. российских интеллигентов, участвовавших в этой кампании не менее чем в 120 собраниях, состоявшихся в 34 городах России, также требовали политических свобод и законосовещательного представительного учреждения.
Начавшаяся в январе 1905 г. революция ещё более обострила проблему политических реформ в России. Солдатские залпы уже почти полгода разгоняли народ, но проблема реформ так и не была снята. Под давлением революции самодержавие вынуждено было пойти на уступки. 6 августа 1905 г. Николай II подписал манифест, которым в системе державной власти учреждалась законосовещательная Государственная Дума, названная «булыгинской» по имени тогдашнего министра внутренних дел А. Г. Булыгина, разработавшего её проект. Но самодержавие явно плелось в хвосте общенародных настроений. Проект законосовещательной думы уже никого не удовлетворял, тем более что революция ширилась, на её сторону начали переходить воинские части. В октябре в стране началась Всероссийская политическая забастовка, встали железные дороги, была парализована работа промышленных предприятий, а Николай II фактически оказался изолированным в Царском Селе под Петербургом. В обстановке, когда трудно было определить, в какую сторону склонится политическая чаша весов, ему не осталось ничего другого, как принять «второй вариант» председателя Совета министров гр. С. Ю. Витте – объявить Манифест 17.10.1905 г., которым прочёркивался конституционный путь развития страны и предоставление гражданских свобод. («Первый вариант», выдвинутый Витте, предлагал назначение военного диктатора, который осуществил бы успокоение страны путем массовых репрессий, пролития крови; однако недавний расстрел у Зимнего дворца 9 января и другие «кровопускания», усилившие революционные выступления, не позволяли принять этот испытанный, казалось бы, веками путь борьбы с непокорными подданными).
В разгар вооружённых столкновений в Москве 11.12.1905 г. был издан закон о выборах в 1 Государственную Думу. По этому закону выборы были не прямые, не равные, не всеобщие и не демократические. Разные слои российского общества были представлены в Думе разным количеством депутатов. Целые слои населения – женщины, военнослужащие, так называемые «бродячие инородцы» (т.е. кочевники-скотоводы) – лишались права выбирать и быть избранными. Выборы не были прямыми, шли по так называемой «куриальной системе», когда выборщики, объединённые по цензовому или социальному признаку (рабочие, крестьяне-общинники), выбирали каждый по своей курии. Не были они и равными, так как курии не были одночисленны. Так, в первой курии (земельные собственники, т.е. в основном помещики) выборы шли по двухстепенной системе (выбранные в губернские выборщики выбирали сразу членов Думы), а для мелких собственников-общинников они были даже четырехстепенные (сход – волость – уезд – губерния – Дума). Один голос в первой курии приравнивался к трём голосам богатых горожан второй курии, 15 голосам крестьянской третьей курии, 45 голосам рабочих, объединившихся в четвертой, так называемой рабочей курии.
Дума не имела права касаться целого ряд важнейших вопросов государственного управления: пересмотра основных государственных законов, внешней политики, а также дел, связанных с вооружёнными силами. Все это оставалось прерогативой только царя. Даже бюджетные права Думы оказывались урезанными: она, например, не имела права контролировать бюджет Синода, расходы, связанные с содержанием царского двора. Не подлежала огласке в Думе статья «На известные Его Императорскому Величеству употребления». Она включала средства на военную разведку, подкуп иностранной и отечественной прессы, разумеется, правого направления.
Самым главным ограничением Государственной Думы в России было то, что исполнительная власть в государстве – правительство – подчинялось только царю и ни в малейшей степени не зависела от Думы, последняя могла сколько угодно разглагольствовать на законодательные темы, а правительство, назначаемое только царём, поступало по его указаниям. Мало того, над Думой была поставлена верхняя законодательная палата – Государственный Совет. Половина его членов назначалась прямо царём, а другая половина выбиралась от крупных землевладельцев, представителей промышленности и торговли, Академии наук и других элитарных сфер общества. Государственный Совет призван был играть роль фильтра, не пропускавшего законопроекты, которые проходили через Думу, но не были приемлемы для самодержавия. В «Свод основных государственных законов» был введён специальный параграф 87, который разрешал императору всероссийскому в перерывах между сессиями Думы (а как показала практика последующих лет, они длились по нескольку месяцев в году) издавать законы от своего имени. Царь мог (и, как известно, без колебаний в нужный ему момент использовал эту возможность) распустить Думу. (Даже на один день, чтобы принять закон, который Дума могла не пропустить по тем или иным причинам.) Но, несмотря на все эти оговорки, введение в России законодательной выборной Думы было важнейшим в её истории событием и крупнейшим завоеванием народа, достигнутым в годы первой российской революции. Теперь без одобрения Думы нельзя было, например, вводить новых налогов, новых расходных статей в государственном бюджете. Если Дума не утверждала бюджета на текущий год, правительство вынуждено было пользоваться прошлогодним бюджетом, что, естественно, стесняло правительство, особенно в вопросе о денежных затратах на развитие вооружённых сил и т. д.
Читать дальше