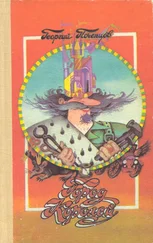Вся идеология воспитания была направлена на умение воевать и умение работать. Трактористы легко становились танкистами, а танкисты – трактористами. По сути, для страны это была одна модель. Воспевались две касты – военная и трудовая. Каноны героев и брались из этих двух сфер. И это тоже новизна, поскольку герои раньше были только боевыми. И для трудовых героев пришлось ввести тоже параллельный знак отличия – Герой социалистического труда.
Вся система литературы, кино, искусства серьезным образом была ориентирована на отображение труда, который символизировался как всеобщее счастье. Соцреализм тоже был направлен на труд. Как следствие, жизнь людей, успешность их судеб вытекали из успешности их труда. Но это как бы не было труд индивидуального порядка, поскольку герои выполняли план своего цеха или завода, колхоза или совхоза, шахты. Как писал В. Маяковский: «Радуюсь я – это мой труд вливается в труд моей республики». То есть акцент труда виделся в общественной пользе, символизировался именно так.
Это был такой почти бесконечный поток мягкой пропаганды: «В Советском Союзе превозносился труд как явление и феномен. Не лишь результат, а конкретно – процесс. Псевдо-эллинистические барельефы c токарями и доярками, „барочные” виноградники и золотые пашни, трактора, домны, градирни, ЛЭПы – искусство бесперебойно славило работу и работника» [2].
Страну все время поднимали на прорыв и порыв. Это была попытка сохранить ощущение революционного рывка 1917-го, который подавался как «заря» всего человечества. Это было движение, а не покой. Молодая страна, молодые руководители… Это не время застоя, когда все уже были стары – и страна, и руководство. Брежнев один раз в 1979 году даже потерял сознание на заседании политбюро.
При этом единое руководство – и страной, и индустрией, и пропагандой – могли задавать нужную скорость развития или хотя бы ощущение этой скорости. Причем пропагандой было все: кино, песня, книга, спектакль. При сильной и умелой пропаганде происходит перетекание ее модели из общественной в личную. Модель мира советского человека была скорее государственно, чем личностно ориентированной. Личные интересы уходили на периферию. Их высмеивали как Эллочку Людоедку c ее ситечком [3].
«Время, вперед!» говорила музыка из сюиты Георгия Свиридова, звучащая в заставке основной новостной телепрограммы «Время», которую не мог пропустить ни один советский человек. Мир двадцатых, когда и произошел реальный разрыв времен, смыкался в этом плане c миром послевоенным в надежде сохранить скорость своего развития.
Но после двадцатых пришли тридцатые. Комсомольцы повзрослели, быт стал конкурировать c порывами. И это перенеслось назад из домашнего быта в общественный. Людям нужна была передышка, хотя бы временная. Они были за, но практикуемая мобилизационная экономика и политика упирались в торможение бытом. Даже у Маяковского было сходное наблюдение перехода порыва в торможение, хотя и личностное, и в другое время: «любовная лодка разбилась о быт».
Государство ответило на этот призыв: «Уже в 1930-х годах вкусы и смыслы кардинально поменялись – начались статьи о том, что Демьян Бедный – это, конечно же, хорошо, но дворянский пиит Пушкин – это база и без него – никак. Вальс и мазурка, Новогодняя елка в бывшем Дворянском Собрании, портики и колонны, маскарад c фейерверком в Сокольниках. Рабочие клубы переименовались в дворцы культуры, а стильная бедность конструктивного рацио была объявлена „проявлением буржуазного формализма”. О домах-коммунах предпочитали больше не вспоминать, а молодых пролетариев срочно принялись учить старорежимному политесу» [4].
То есть снятие мобилизационного напряжения сразу привело к частичной смене парадигмы, которую взяли из прошлой жизни. Это был в определенной степени послереволюционный откат к спокойной жизни.
Внезапно вернулась и елка, которая до этого преследовалась как признак религиозного рождества. Вот как это было: «Все началось c того, что четверо высокопоставленных вождей во главе со Сталиным 27 декабря 1935 года ехали в машине по Москве, осматривая предновогоднюю столицу. Вот как об этом в своих мемуарах рассказывал Н. С. Хрущев: „Вышли мы, сели в машину Сталина. Поместились все в одной. Ехали и разговаривали. Постышев поднял тогда вопрос: „Товарищ Сталин, вот была бы хорошая традиция, и народу понравилась, а детям особенно принесла бы радость, – рождественская елка. Мы это сейчас осуждаем. А не вернуть ли детям елку?” Сталин поддержал его: „Возьмите на себя инициативу, выступите в печати c предложением вернуть детям елку, а мы поддержим”. Сказано – сделано. Уже 28 декабря 1935 года в „Правде” вышла заметка Павла Постышева: „Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!”» [5].
Читать дальше