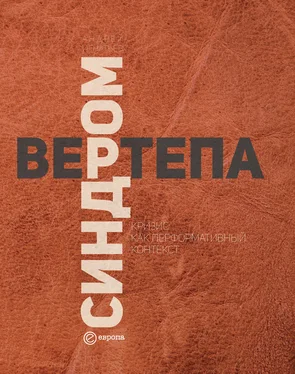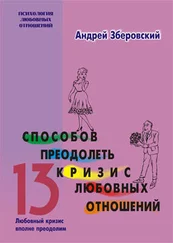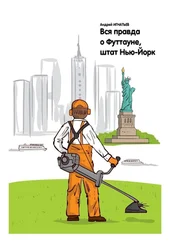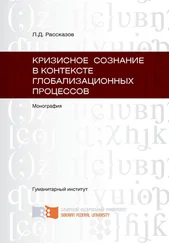У древних классических иудеев был закон, то есть правила, обязательные к исполнению, но не было прав, не уверен также, что нечто подобное было у древних римлян (исключая, наверное, право обратиться в суд, которое отнюдь не было универсальной нормой), думаю, право в собственном значении термина появляется только в условиях монархии, сначала как личное, а позднее – сословное исключение из закона, возникновение которого замечательно экспонировано в повести Марка Твена «Принц и нищий»: по закону, в присутствии короля все обязаны стоять, но для одного из героев на основании личных заслуг сделано исключение – он имеет право в присутствии короля сидеть, если, конечно, готов пойти на риск, сопряженный с использованием этого права на практике. Точно так же у меня когда-то было право курить в здании чикагского Illinois Center, этим правом меня наделил лично владелец здания, но я, понятное дело, воспользовался им только однажды, во время разговора с этим человеком, когда, собственно, такое право и получил, так-то я всегда соблюдал закон, то есть курил на улице у входа. В советское время ветераны войны имели право на получение разных услуг без очереди, то есть в нарушение общепринятого неписаного закона, был даже анекдот, будто ветеранам предоставлено право переходить улицу на красный свет, анекдот, конечно, злой и несправедливый, но хорошо демонстрирует статус права как исключения из закона.
Первоначально права были только у суверена [9] С этой точки зрения заявкой на суверенитет, пусть даже вполне легендарной, можно считать попытку римского императора Калигулы сделать свою лошадь членом сената: по закону, конечно, этого сделать было нельзя, да и народ бы не понял.
, потом у отдельных его приближенных, еще потом, уже гораздо позже, у определенных сословий (в США, например, закон, известный как «правило Миранды», предусматривал права, отличающие арест свободного человека от поимки беглого раба, отсюда пресловутое «зачитай ему права»), и только французская революция конца XVIII – начала XIX века сделала право всеобщим достоянием, тем самым, с одной стороны, уравнивая «третье сословие» с былыми эксклюзивными обладателями прав, аристократией и духовенством, а с другой – упраздняя специфику самого этого понятия, откуда уже характерное для нашего времени неразличение права и закона. Тем не менее любая нормативная декларация прав, будь то права человека и гражданина от 1789 года, просто человека от 1948 года или, например, гражданина Российской Федерации от 1993 года, определяет права именно как виды действий, которые законодатель, а это республиканский псевдоним суверена, выводит из-под действия всякого возможного закона, эпитет «неотъемлемые», который в таких случаях обычно предшествует существительному «права», только подчеркивает, что эти права, в принципе, могли бы и всегда могут быть отняты, но суверен или его полномочный представитель на своей инаугурации клятвенно обязуется этого не делать. Отсюда, в частности, практика так называемого поражения в правах, восходящая к изначальному и действительно неотъемлемому праву суверена наделять правами или их лишать, идиома «качать права», отсылающая к специфическим практикам и контекстам их осуществления, а также концепция естественного права, которая, по сути дела, констатирует существование действий, на которые закон не должен распространяться в принципе, независимо от позиции суверена, потому что это несообразно с природой человека как живого существа: попросту говоря, всякий человек, пока жив, все равно будет уклоняться от исполнения соответствующей нормы, не так, так этак.
Понятно, что в условиях глубокой и стойкой аномии, когда закон не соблюдается вовсе или соблюдается от случая к случаю, а также, тем более, долговременного и крупномасштабного транзита и кризиса, то есть классического «чрезвычайного положения», когда закон проблематизирован априори, термин «право» утрачивает свое специфическое значение и становится просто расхожей метафорой порядка в его отличии от полного бардака, понятно также, что «право на протест» норма до крайности двусмысленная: номинально это привилегия, разрешение суверена критиковать свои решения или даже вступать в конфронтацию с их исполнителями, однако использование этой привилегии на практике означает либо признание сложившихся отношений власти, пусть даже в опосредствованной и хорошо камуфлированной форме, либо серьезный риск и даже необходимость принести себя в жертву, подобного сорта нравственные или политические дилеммы и есть Лабиринт, от блуждания в котором избавляют социальные институты.
Читать дальше