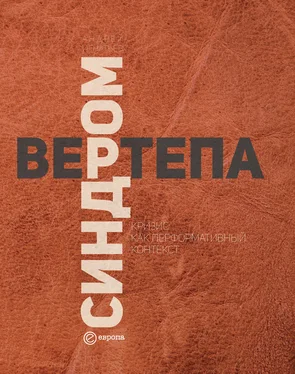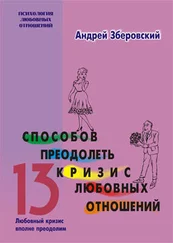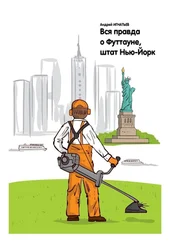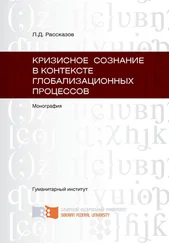Для старшего поколения, в свою очередь, советское, до катастрофы 1991 года, прошлое травматично, причем для всех, кто его пережил, а не только тех, чьи родители или близкие родственники погибли на войне, сгинули в концлагере, запятнали себя поступками, компромиссами или альянсами, сомнительными в нравственном отношении, в том числе пресловутым стукачеством или даже участием в расстрелах, там осталось очень много всякого такого, о чем не хочется помнить (оттого-то в этом поколении так много сильно и безнадежно пьющих), чего никто не должен знать и о чем, соответственно, нельзя говорить, можно только умалчивать, оно должно уйти, умереть или навеки уснуть, затеряться в недрах бессознательного и в архивах [75] Впервые чувство отчуждения от советского прошлого, его выталкивания куда-то в архив, в музей или в бессознательное – не осуждения, осмеивания, оплакивания или прославления, как у других, а вот именно отчуждения, деактуализации – появляется, наверное, в поздней прозе Ю. Трифонова, который, наверное, одним из первых еще в 70-е годы начал понимать, что «советский проект» исчерпан, история советского государства – действительно неактуальное прошлое, в его повести «Дом на набережной» есть даже весьма характерный эпизод: повествователь и, надо полагать, alter ego автора пристает к одному из критически важных персонажей с вопросами о его героической молодости, а тот ему с раздражением отвечает: «Охота вам заниматься всей этой жеребятиной!» Такая позиция, в частности, хорошо экспонирована в публикациях авторов, покинувших Россию в канун или сразу после событий 1991 года. См.: Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. М.: НЛО, 1997.
, вот почему это прошлое герметично, практически как вода в Мертвом море, оно выталкивает на поверхность всякого, кто туда пробует погрузиться. Между тем в прошлое (так уж оно устроено) нельзя отправиться наугад, не обладая хотя бы самой приблизительной «дорожной картой», то есть представлениями о разметке соответствующего пространства и времени [76] Обычно такую разметку обеспечивают учебники истории, однако учебника, который бы выполнял эту функцию сколько-нибудь успешно применительно к советскому прошлому, сегодня нет, краткий курс истории ВКП(б) нынче дезавуирован, а ничего сопоставимого с ним по уровню решения указанной задачи так и не появилось.
. Отдельные вылазки в советское прошлое уже были предприняты [77] См.: Гладыш А. (Игнатьев А.А.). Структуры Лабиринта: отчет о полевых наблюдениях. М.: Ad Marginem, 1994; 1997; Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005; Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. М.: НЛО, 2014; Данилкин Л.А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М.: МГ, 2017; Каспэ И.В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры. М.: НЛО, 2018; Слезкин Ю.Л. Дом Правительства: Сага о русской революции. М.: АСТ, 2019; Boer R. Stalin: From Theology to the Philosophy of Socialism. Singapore: Springer, 2018. Наверное, есть еще что-нибудь, но эта моя книжка отнюдь не обзор литературы вопроса.
, однако рассчитывать на получение сколько-нибудь целостной и объективной его картины, которая бы позволяла рассматривать советское государство как систему со своей специфической инструментальной рациональностью («номосом», как сказал бы Карл Шмитт), вменяемую и достаточно устойчивую политическую конструкцию, в этом случае не приходится, всякое, даже фактуально безупречное, суждение о прошлом в этом случае только идеология или утопия, в лучшем случае – чьи-либо частные мемуары.
Нетрудно заметить, что перед нами парадокс, очень похожий на тот, с демонстрации которого когда-то началась социология как научная дисциплина: с одной стороны, каждое партикулярное прошлое, как и конкретный суицид, – уникальная личная драма, комедия или даже трагедия, сплетенная из множества провалов или удач, которых, в принципе, могло бы не случиться вовсе, с другой же – это все элементы головоломки, итоговый паттерн которой заранее и хорошо всем известен, крушение советского государства в августе 1991 года; очень похожую ситуацию когда-то смоделировал Торнтон Уайлдер в повести «Мост короля Людовика Святого».
Из подобной ситуации, как известно, есть только два выхода – исключая, разумеется, категорическое умолчание о советском прошлом как о небывшем: один «годить», как сказал бы М.Е. Салтыков-Щедрин, то есть дожидаться или добиваться открытия архивов, публикации мемуаров, восстановления «исторической правды» даже вопреки желанию множества «серьезных людей» ее напрочь забыть и прочего такого, пока же этого не произошло – воздерживаться от общих суждений и оценок, если на то не поступит высочайшего распоряжения, но и тогда, в общем, не торопиться с выводами, – позиция, унаследованная еще из советского прошлого. Другой же, наоборот, «дерзать», то есть отважиться, рискуя неудачей и всякими репутационными издержками, на выдвижение какой-нибудь интегральной, пусть и сугубо предварительной, следственной версии [78] Выбор между «годить» и «дерзать», то есть между индуктивным и дедуктивным методами исследования, вообще говоря – неразрешимая дилемма, которую, в частности, обсуждает Гамлет в своем знаменитом монологе, сегодня в социальных науках и гуманистике принято «годить», однако во времена, на которые пришлось мое становление как исследователя, принято было «дерзать». Обычно для разрешения этой дилеммы прибегают к итерации, которую продолжают до тех пор, пока не появляется конкретный и чисто практический мотив на чем-нибудь остановиться, для автора данной работы таким мотивом послужила необходимость ее наконец закончить и оформить. Вопрос о допустимости переноса законов, конституирующих одни общества, на другие здесь, разумеется, возникает, однако его обсуждение я бы предпочел отложить до какого-нибудь более подходящего случая.
, на практике это значит попробовать все-таки «определить ситуацию», то есть типовые и массовые контексты повседневного действия, которые порождало и чье воспроизводство обеспечивало советское государство, организуя при этом аналитику вокруг какой-то очень конкретной, хорошо узнаваемой и типичной проблемы. Для автора этой книги наиболее существенной из таких проблем является социальная динамика, то есть условия, которые обеспечивают появление, развитие и тиражирование инноваций, все равно – политических, экономических, технологических или социальных: хорошо известно, что эту проблему советское государство так и не научилось решать, хотя неоднократно пыталось, из-за этого, как считается, была проиграна военно-техническая и политическая конкуренция между СССР и США, «перестройка» даже началась с программы ускорения научно-технического прогресса и только потом обернулась крупномасштабным терминальным кризисом власти.
Читать дальше