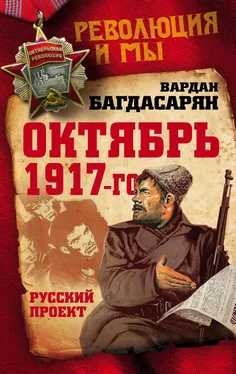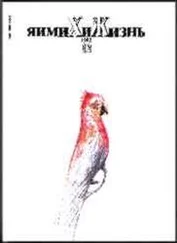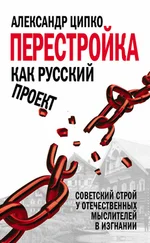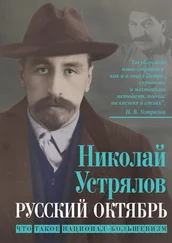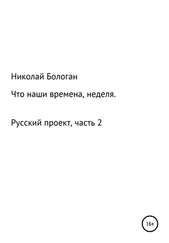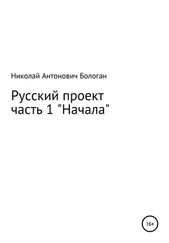Загадкой для историков является пассивность, проявленная в 1917 г. многочисленными сторонниками самодержавного правления. Ведь во время первой русской революции они активно выступили в защиту царского престола. По-видимому, народный монархизм на подсознательном психоментальном уровне в значительной мере трансформировался в большевизм. Октябрьская революция воспринималась в качестве возмездия узурпаторам царского престола. Ни что так не резало слух русского человека, как прилагательное «временное», вынесенное в официальное наименование революционного правительства. Временные, промежуточные, переходные формы противоречат монархическому принципу «предвечных устоев». Временщик – это узурпатор. Временному правительству не хватало политической решимости, чтобы раз и навсегда разрешить принципиальные вопросы государственного функционирования России. Его нерешительность укрепляла народ в подозрении о нелигитимности власти «временщиков». Другое дело большевики, которые твердой рукой вершили свою политику (без оглядки на всякого рода представительства, вроде Предпарламента или Учредительного собрания). Они сразу же дали понять, что власть им принадлежит по праву (народному пониманию права, определяемого в качестве особой харизмы божественного избранничества). [67]
Неприятие Государственной Думы восходило к архетипу отношения народа к Думе боярской. Старинный идеомиф о том, что бояре-крамольники изводят царя – народного радетеля, экстраполировался в контекст политической конъюнктуры Февральской революции. Министры Временного правительства – это думские бояре-узурпаторы, низложившие царя. За такими политическими декорациями, как Директория, угадывался образ «семибоярщины». Переезд А. Ф. Керенского в царский дворец, где он работал в кабинете и спал в опочивальне Александра III, укрепляли народ в правильности его догадки. Муссировались слухи, будто бы председатель Временного правительства даже примерял на себя тайно царскую корону и усаживался на престол. Большевистская же революция воспринималась через призму архетипа покончившего с семибоярщиной «народного ополчения». Оставалось в соответствии со сценарием смутного времени утвердить нового царя. А между тем на пост наркома по делам национальностей в первом большевистском правительстве был назначен И. В. Сталин… [68]
Большевизм, вышедший из среды социал-демократии, представлял собой отрицание конформистского социал-демократизма. Ленинизм выступал как синтез марксизма и народнической традиции. Несмотря на декларируемую приверженность большевиков марксистской идеологии, ее основополагающие принципы были выхолощены в ходе строительства реального социализма. Народническая версия построения общества будущего посредством обращения к традиционным институтам докапиталистической России, при усилении тенденций апелляции к прошлому, делала вероятным перспективу «консервативной революции» под социалистическими знаменами. Слово «большевик» вызывало ассоциации с привычным для крестьянского слуха термином «большак», обозначавшего руководителя общинным миром. «Красная» семантика также оказалась наиболее предпочтительной в контексте народной семиосферы. Принципы коллективного землепользования отражали традиционные эгалитарные нормы социального устройства русской деревни. Аграрный смысл революции заключался в ликвидации чужеродной частнособственнической модели обустройства села. Коллективизация была жестокой и неумело проведенной, но исторически неизбежной хирургической операцией по восстановлению национальных форм бытия общины. Система Советов также оказалась ближе народной ментальности, чем западно-европейский принцип организации власти на основе многопартийной выборности. С другой стороны, коллегиальная модель республиканизма подменялась цезаризмом как квазимонархической системой, основанной на архетипах царистской традиции патерналистского сознания народа. Цезарь и Советы были обозначением на новый лад институтов допетровской органической Руси – Царь и Собор. О парадоксальном характере народного восприятия Ленина как носителя идеи самодержавной Руси свидетельствует письмо на имя председателя СНК от И. Павлова: «Симбирскому дворянину Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину).
Честь и слава Вам, Владимир Ильич! Как маг и чародей, Вы сумели заставить русский народ забыть и простить Николаю Второму все его прегрешения и властно повернули его вновь на путь Монархизма. Умело и незаметно, не словами, а делом Вы с очевидностью показали всему миру нелепость социалистических теорий и мудро, как сказочный змий, зажгли сердце русского народа непримиримой ненавистью к подлому и продажному племени иудеев. Да, пусть многое погибло! Но всякий, кто только может хоть немного смотреть в будущее, скажет, что это к лучшему. Сейчас разрешение проблемы социализма и вопроса о собственности, равным образом дело монархизма поставлено на верный путь и обеспечено на долгие годы. И это исключительно благодаря симбирскому дворянину Ульянову. Честь и хвала Вам, Владимир Ильич! Убежденный монархист Павлов. 26 декабря 1919 года». [69]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу