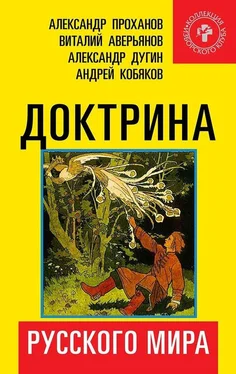* * *
Что же происходило в мире во втором тысячелетии, когда на мировую сцену начала выходить Россия и ряд других для тех времён «молодых славянских государств»? Среднедушевой доход в странах остального мира в течение второго тысячелетия увеличился всего в восемь раз, что по сравнению со средним 49-кратным ростом на Западе было незначительно. В 1000 г. на долю Запада приходилось менее 12 % мирового ВВП, в 1820 г. его доля удвоилась и составила 25 %, а в 1950 г. она подскочила до 57 %. С 1950 г., когда стартовал процесс ускорения роста в Азии и рецессии на Западе, доли стран остального мира и Запада в мировом объёме ВВП сблизились до уровня 2/3 к 1/3, а ныне, с учётом выхода Китая по объёму ВВП на второе место в мире (после США и опережая переместившуюся на третье место Японию), эти доли почти уравнялись.
Закономерно возникает вопрос: почему Запад достиг значительного первенства уже к 1820 г.? Произошло ли это из-за уникальных свойств западных институтов и западной политики и культуры или по причине экспансии капитала и усиления эксплуатации Западом стран остального мира, ставших возможными в силу разорения и упадка некогда великих и мощных восточных ремёсел и ещё более великих и мощных восточных культур?
Представляется, что обе причины действовали одновременно. При этом более фундаментальное значение имели причины, связанные с более рациональным использованием Западом собственных природных ресурсов и человеческих возможностей, в частности возможностей научно-технического прогресса, основанных на началах интенсивного типа расширенного воспроизводства. В равной мере и пропорционально: и производительных сил, и производственных отношений. До XIX в. Запад в своём росте опирался по преимуществу на усиленную эксплуатацию труда, в том числе собственной рабочей силы, равно как и на использование национальных природных ресурсов, в последующем (XIX в. и особенно в XX–XXI вв.) – по преимуществу на экспериментальные исследования и разработки как решающие факторы ускорения технического прогресса. И это позволило Западу наряду с усилением технического прогресса и повышением эффективности использования собственных ресурсов реализовать широкую программу экспансии капитала и колонизации природных ресурсов и труда стран остального мира. Восток же все эти годы пребывал в плену примитивного экстенсивного роста, замыкаясь в рамках узких национальных границ и удовлетворяясь малым и примитивным простым воспроизводством своих производительных сил. Ещё более отрицательное влияние на общую ситуацию упадка оказывали здесь (продолжают оказывать в достаточной мере и сегодня) замороженные фактически на уровне средневековья церемониальные, медлительные по своей сути, а главное, неэффективные восточные производственные отношения.
Институциональные преобразования Запада, которые устранили многие существовавшие прежде формальные рыночные ограничения (например, антитрестовское законодательство), свободная миграция населения, труда, товаров, услуг и капиталов, прогресс в корпоративной организации управления и учёта, создание в массовых масштабах транснациональных корпораций (ТНК) и мощных международных финансовых институтов и рынков – все эти факторы способствовали снижению рисков и продвижению западного предпринимательства.
Возникновение европейской системы национальных государств, а впоследствии образование их союзов придали импульс эффективному многонациональному взаимодействию материальных и интеллектуальных капиталов, создавая эффект порождаемого (эмерджентного) их роста подчас даже не в арифметической, но в геометрической прогрессии, что отсутствовало в эти годы в Азии. Восток здесь не только не поспевал, но и безнадежно отставал.
Западная общественная система, начавшая исповедовать принципы естественного отбора и покончившая с автаркией и монокультурой уже в эпоху протокапитализма, в последующем твёрдо и бесповоротно перешла к рынку и его атрибутам, в частности к свободной конкуренции. За ней последовала и западная семейная система, которая уже в те годы стала (правда, в зачаточных, а не в нынешних чудовищных формах) культивировать контроль над рождаемостью при ограниченных обязательствах к детям и практически нулевых отношениях с дальними родственниками, что усиливало возможности индивидуального накопления капитала и богатства, повышало авторитет естественного отбора, укрепляя институт личных интересов и личных инициатив.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу