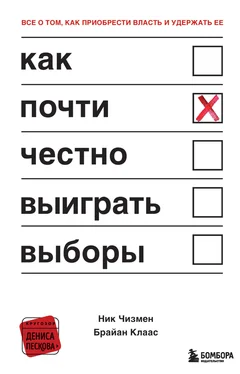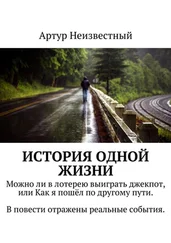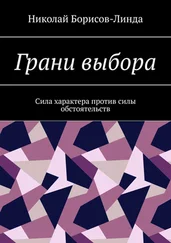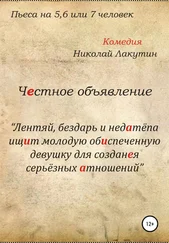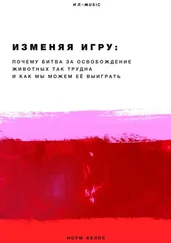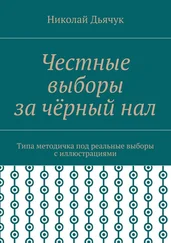. Мол, все страны медленно, но верно движутся в сторону либеральной демократии. Сегодня такие идеи иначе как наивным оптимизмом не назовешь. В реальности последнее десятилетие ознаменовалось постепенным снижением уровня демократичности во всем мире. Более того, нет оснований считать, что эта тенденция замедляется. По данным американской организации Freedom House, исследующей вопросы демократии, в 2017 году семьдесят одна страна продемонстрировала деградацию политических прав и гражданских свобод, и лишь тридцать пять улучшили свой уровень
[7] Freedom House. “Freedom in the world 2017”; http://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017 (дата обращения – 29 января 2018).
.
Тот год был особенно неудачным для демократического развития мира, однако это общая тенденция. На протяжении последних 12 лет в большинстве стран демократия не укрепила, а сдала позиции. Примечательно, что этот процесс не сконцентрирован в одной части света и не является локальной тенденцией отдельных регионов. Напротив, эрозия демократических институтов наблюдается во всех регионах третьей волны демократизации – Латинской Америке, Восточной Европе и Африке, а также там, где демократизация еще впереди – например, на Ближнем Востоке. Характерно, что в пятерку стран, показавших наибольший демократический откат в 2017 году, вошли, в порядке выраженности, Турция, Центральноафриканская Республика, Мали, Бурунди и Бахрейн. Не особенно отстали от них Венесуэла и Венгрия [8] Там же. Freedom House. “Freedom in the world 2017”; http://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017 (дата обращения – 29 января 2018).
.
Эти изменения особенно бросаются в глаза по контрасту с другим глобальным трендом последних лет: растущей популярностью многопартийных выборов. Как получилось, что расцвет голосований совпал с десятилетием демократической деградации? Разгадка проста: диктаторы, автократы и фальшивые демократы разобрались, как фальсифицировать выборы и выходить сухими из воды. Все больше авторитарных элит принимают участие в конкурентных многопартийных голосованиях, но не желают отдавать свою судьбу в руки электорату. Иными словами, выборов все больше, но и фальсификаций – тоже.
Эта часть истории – глобальный демократический регресс и неспособность выборов в одиночку обеспечить демократию – уже привлекла большое внимание ученых и журналистов [9] См., например: Dwight Y. King. HalfHearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia (Westport, CT: Praeger Publishers, 2003): 7.
. Международные лидеры продолжают публично восхвалять преобразовательную мощь института выборов, включая те, что проходят в суровейших условиях, вроде Афганистана и Ирака. Однако свежий опыт показывает, что правительствам вполне по силам поставить многопартийность себе на службу [10] Две наиболее важные недавние работы по этому вопросу: Sarah Birch. Electoral Malpractice (Oxford University Press, 2014); Pippa Norris. Why Electoral Integrity Matters (Cambridge University Press, 2014).
. Многих удивит тот факт, что в целом ряде стран широкое голосование не только не угрожает власти диктатора, но и порой активно укрепляет ее. Дело в том, что, проводя выборы, потрепанные правительства, как правило, получают второе дыхание и осваивают ценные экономические ресурсы, такие как международная помощь, а правящая партия в это время наполняется свежими силами и успешно сеет распри в стане оппозиции. Как следствие, ряд авторитарных режимов, которые почти выпустили власть из рук, при помощи избирательной урны не только сумели одержать победу на очередных выборах, но и восстановили свое политическое доминирование.
Другими словами, если авторитарные лидеры могут проводить выборы и при этом оставаться у власти, то они получают все козыри – аккумулируют еще больше ресурсов, придают себе легитимности и остаются у руля. Нельзя сказать, что автократы обожают выборы: большинство изо всех сил сопротивляется введению многопартийной системы – отчасти потому, что, с их точки зрения, оппонирование и несогласие не являются полноправной политической деятельностью. Но когда в стране появляются конкурентные выборы, многие автократические режимы демонстрируют удивительные способности к адаптации под новую реальность. В результате авторитарные системы, проводящие выборы, но не допускающие оппозиционные партии до настоящей конкуренции, оказываются долговечнее своих собратьев [11] См.: Philip G. Roessler and Marc Morjé Howard. “Post-Cold War political regimes: when do elections matter?” // Staffan Lindberg (ed.). Democratization by Elections: A New Mode of Transition (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2009): 101–27, 120. Авторы проводят границу между тремя типами авторитарных систем: закрытые авторитарные системы, которые не проводят выборов; гегемонные системы, позволяющие проведение выборов, но не допускающие значимой конкуренции; конкурентные авторитарные системы, в которых разворачивается существенная борьба, но в несвободных и нечестных условиях. Основываясь на анализе глобальной статистики 1987–2006 годов, они обнаружили, что гегемонные авторитарные системы, проводящие выборы, но под жестким контролем, склонны к гораздо большей стабильности по сравнению с закрытыми авторитарными системами, где не проводятся выборы в принципе. Однако те же исследователи обнаружили, что, когда выборы в автократии становятся более открытыми, как в конкурентном авторитаризме, перспективы устойчивости режима существенно падают (мы вернемся к этому вопросу в заключении).
.
Читать дальше