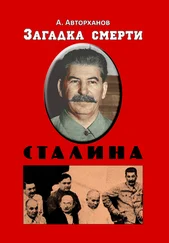Ландшафт дан, разумеется. отнюдь не только революционерам. Люди и общества в целом борются за выживание, власть и ресурсы, вырабатывая или наследуя ритуальный, политический и культурный язык. Государство – непрерывная материализация этого языка, результат его бесконечных усилий описать, то есть подчинить себе, окружающий хаос. По ландшафту этих описаний и следующих им перспектив и движется история обществ. Современный британский историк, исследуя аграрные реформы самодержавия, также вводит в свой лексикон понятие «рационального ландшафта», который – как «предзаданный план» – в её описании противостоит ландшафту физической географии и аграрного землепользования в России. Понятие это богаче простого его применения как синонима утопии: внедряя в русское сельское хозяйство фермерский образец, правительственные реформаторы следовали его семантической полноте: «опираясь на убеждение, что земледелие в России призвано пройти тот же путь эволюции к индивидуальному фермерскому хозяйству, какой оно прошло в Западной Европе, были уверены, что “сделали ставку на историю”. Сила этого убеждения не только влияла на цели реформы и правила, по которым она осуществлялась, но и представляла собой рамку, в которой понимались результаты реформы» 6 6 Джудит Паллот. Конструирование рационального ландшафта в позднеимператорской России // Русский Сборник: Исследования по истории России XIX–XX вв. Т. I. М., 2004. С. 59, 76. В этом выводе она опирается на труды: R. Stites. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in Russian Revolution. Oxford, 1989; D. J. Macey. The Wager on History: The Stolypin Agrarian Reforms as Process // J. Pallot (ed.). Transforming Peasants Society, State and the Peasantry, 1861–1930. Basingstoke, 1998.
.
Семантический и символический ландшафт истории – не только проективное усилие реформаторов, или консервативная лоция обществ в их движении внутри истории, но и тот исторический объём сознания, внутри которого тоже протекает деятельность обществ, ставятся их практические задачи. Независимо от действительного расположения звёзд на небосклоне. В прямой связи с тем, как они расположены в его историческом сознании. Великий французский исследователь Мишель Фуко (1926–1984) ещё радикальней увидел этот ландшафт как архитектоническое единство, заставляя анализировать уже не просто культурную непрерывность влияний и традиций (которая может прерваться), а более глубокую его основу: «внутренние связи, аксиомы, дедуктивные цепочки, совместимости», «единый горизонт для столь различных и последовательно сменяющих друг друга смыслов… проблема не в традиции и следе, а в вырезе и границе» 7 7 Мишель Фуко. Археология знания [1969] / Пер. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. СПб., 2012. С. 38, 39.
.
Конечно, ничто в границах этого ландшафта не может удержать народы и государства от гибели. Но фаланги и «большие батальоны» проходят именно по этой ментальной земле. Даже безопасность и выживание обществ прямо диктуются географией и ландшафтом исторических угроз вне их конкретных идеологических толкований. В структуре исторических угроз важнее оказываются факторы их интеллектуального пространства: семантический консенсус, исторические прецеденты, история и география конфликта.
Создатель советской экономической географии, 8 8 Создателем экономической географии в России считается В. Э. Ден (1867–1933): важно, что его методы основывались на презумпции единства отраслей хозяйства, географических, физических и культурных условий: М. М. Голубчик. В. Э. Ден и исследование проблем географии мирового хозяйства // Научный симпозиум «В. Э. Ден и современная Россия». Тезисы докладов 25–26 мая 1993. СПб., 1993. С. 25–26. Ден признаётся также учителем «отца советского червонца», воспитанника Санкт-Петербургского политехнического института Л. Н. Юровского (1884–1938): В. А. Исаев. В. Э. Ден и вопросы рационального использования природных ресурсов // Там же. С. 15.
марксист конца 1890-х и социал-демократ вплоть до 1917 года Н. Н. Баранский (1881–1963) из глубины сталинского коммунизма, решавшего критически важную для него проблему экономического районирования и экстренного развития «стратегического тыла» перед лицом исторической угрозы с Запада и новой угрозы с Востока, смело соединял физический ландшафт с его общественным переживанием и, главное, почти прямо названной правящей волей: «географически мыслит тот, кто в достаточной мере привык обращать внимание на различия от места к месту не только по природным условиям, но и по историческим судьбам, и по общественным условиям, и по положению, и по хозяйству, кто привык свои суждения “класть на карту” (…) Географическое мышление – это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного “элемента” или “отрасли”, иначе говоря, “играющее аккордами, а не одним пальчиком”…». Похоже, именно это мышление Сталин называл в 1930-е годы «высшей географией» 9 9 Н. Н. Баранский. Что понимать под выражением «географическое мышление» [1938] // Н. Н. Баранский. Экономическая география. Экономическая картография. М., 1960. С. 143. Эти интуиции проявились (но не получили формального выражения) в важных проговорках периода напряжённого сталинского идеократического творчества – подготовки «Краткого курса истории ВКП (б)»: 25 апреля 1938 Сталин провёл решение Политбюро ЦК ВКП (б), в котором было записано: «Признать необходимым издание «Кратких курсов» и «учебников» по высшей географии, всеобщей истории, истории СССР, истории ВКП (б)…». Именно на основе учебника географии Баранского и при его руководящем участии было решено готовить идеологически главный учебник по географии («Краткий курс истории ВКП (б)». Текст и его история. В 2-х частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП (б)». 1931–1956 / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014. С. 12, 341, 243).
. Советский последователь Н. Н. Баранского пошёл ещё дальше и прямо соединил экономическую географию, историю и идеологический «отбор»: «Анализ экономико-географического положения приучает, во-первых, “мыслить территорией”, во-вторых, отбирать наиболее существенное, в-третьих, мыслить в историческом аспекте» 10 10 Г. М. Лаппо. География городов с основами градостроительства. М., 1969. С. 45.
.
Читать дальше
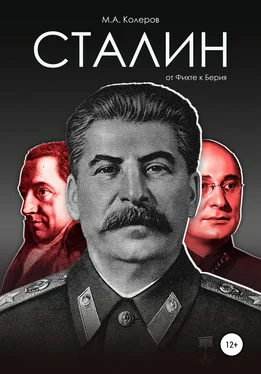
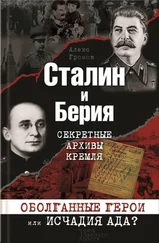
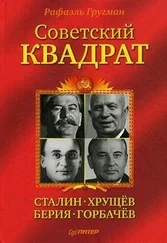
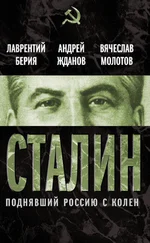





![Модест Колеров - Петр Струве. Революционер без масс [сборник]](/books/430169/modest-kolerov-petr-struve-revolyucioner-bez-mass-thumb.webp)