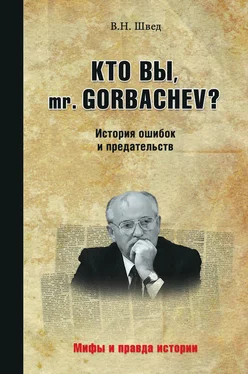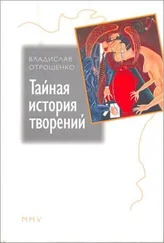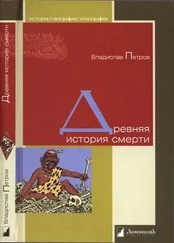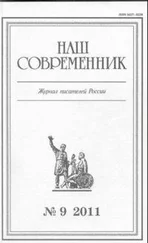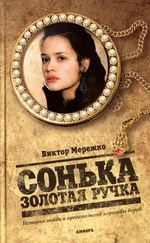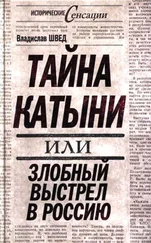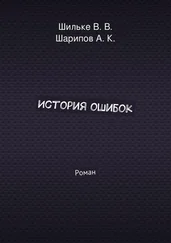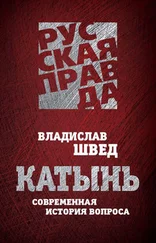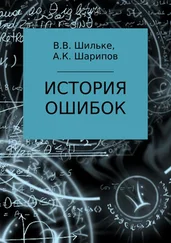Благодаря поддержке Бакатина литовские военизированные формирования, по данным союзного «Правительственного вестника»от 18 апреля 1991 года, насчитывали около 20 тысяч человек. Они располагали 78 тысячами единиц огнестрельного оружия. У них было изъято более 10 тысяч единиц оружия и 4 миллиона штук боеприпасов. Такой арсенал не мог быть накоплен, если бы Бакатин, как министр МВД СССР, должным образом выполнял свои служебные обязанности.
Попутно замечу, что, общаясь с приезжавшими в Литву представителями Центра, я поражался их невежеству в вопросах межнациональных отношений. У большинства московских гостей было убеждение: если мы уважаем и любим литовцев, то они просто обязаны платить русским той же монетой.
Особо следует рассказать о моих встречах с председателем Совета министров СССР Николаем Ивановичем Рыжковым. Они происходили после объявления Литвой независимости. В отличие от многих в Москве Рыжков пытался понять глубинные причины конфликта между союзным правительством и Верховным Советом Литвы, провозгласившим независимость. Его поражала наглость В. Ландсбергиса, требовавшего от Совмина Союза продолжать обеспечивать Литву сырьем и материалами на условиях союзной республики.
Рыжков не мог понять, чем она была обусловлена. И он, и я тогда не знали, что Горбачев в декабре 1989 года на Мальте пообещал Дж. Бушу-старшему отпустить Литву из Союза. Ландсбергис об этом знал и вел себя соответственно. Я в силу своих знаний и возможностей старался помочь Николаю Ивановичу уяснить специфику Литвы. Он тогда сидел на 2-м этаже здания Совмина в Кремле в бывшем кабинете Сталина.
Перед кабинетом была довольно узкая приемная, справа от нее находились три сообщающиеся комнаты для ожидающих приема. Во второй из них находился большой круглый стол, за которым я ожидал, когда Николай Иванович освободится. Вход в кабинет Рыжкова из приемной был слева через тамбур с двойными дверями. Представьте мое волнение, с которым я входил в этот кабинет. Ведь это был кабинет Сталина. В годы войны в нем вершилась судьба человечества. Как я понял, Николай Иванович в этом кабинете ничего не менял. Его стол находился в дальнем правом углу кабинета. Слева находился длинный стол под зеленым сукном для заседаний.
Обычно Николай Иванович беседовал со мной, сидя за длинным столом для заседаний. Там у него были телефонные аппараты, чтобы, не прерывая встречи, отвечать на звонки. При мне Рыжкову два раза звонил Горбачев. Меня поразил их диалог. На многословие Михаила Сергеевича Николай Иванович отвечал однозначно:
– Да, Михаил Сергеевич!
– Хорошо!
– Подумаем!
– Сделаем!
На этом разговор кончался. После второго такого разговора я не выдержал и попытался поговорить с Рыжковым по поводу процессов, происходящих в Союзе, и о том, что в КПСС возлагают большие надежды на Николая Ивановича. Однако он замял этот разговор.
Весной 1990 года, решая вопросы закрепления позиций ЦК Компартии Литвы/КПСС в ЦК КПСС, мне довелось встретиться с рядом других членов Политбюро. В этих встречах меня поразило одно. В ответ на многие поставленные мною вопросы, как правило, звучал один ответ: мы не против, но, главное, как решит генеральный. В этой связи все уверения Горбачева о том, что многое в партии и стране делалось помимо него, звучат несерьезно.
Что же было основой такого всевластия генерального секретаря ЦК КПСС, а затем и президента СССР? Тайну приоткрыл не раз упомянутый В. Болдин в книге «Крушение пьедестала…». В основе этого всевластия лежала система привилегий, которыми пользовались представители высшего эшелона власти в СССР. Полагаю, что будет не лишним процитировать Болдина, так тема привилегий обросла целым комом слухов.
«… Брежнев и его ближайшее окружение хорошо понимали, что их спокойствие и благополучие будут зависеть от сытости тех, кто проводит линию высшего руководства. Поэтому уже в первые годы было не только восстановлено то, что разрушил или ограничил Хрущев. Создавалась, по существу, новая мощная система привилегий.
…Строились новые поликлиники и больницы, санатории и дома отдыха. Пользоваться всеми привилегиями могли работники в зависимости от своего служебного положения, а подчас и благодаря благосклонности руководства.
…Разумеется, все эти привилегии не шли ни в какое сравнение с теми, чем пользовался высший эшелон руководства страны. Формально члены Политбюро, включая и Председателя Совета Министров СССР, до 1987 года имели заработную плату 800 рублей. Это была относительно небольшая сумма, но не она определяла уровень благосостояния руководителей партии и государства. Существовали специальные закрытые решения Политбюро ЦК и Совета Министров СССР, в которых расписывалось, кто и что мог получать, причем о некоторых решениях знали всего три человека.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу