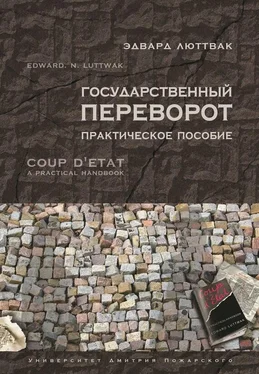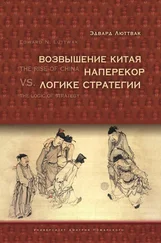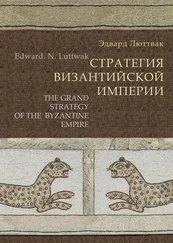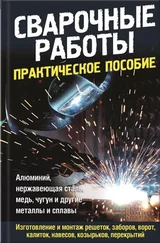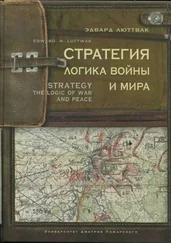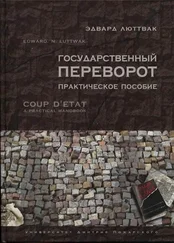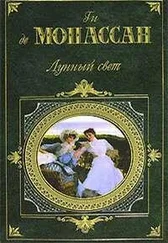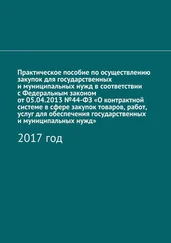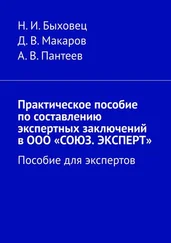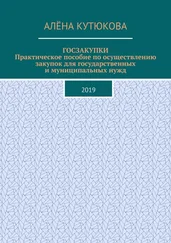Все эти программы действительно привели к перестройке экономики и к быстрому развитию ее перспективных направлений. Но, как всегда случается в ситуациях «опьянения радикальными идеями», стремление к излишней либерализации привело к ряду проблем и перекосов в функционировании экономической системы в целом: в банковской сфере появляются «финансовые пузыри»; население страны оказывается недостаточно мобильным для того, чтобы поспевать за быстро перестраивающейся экономикой, затребовавшей новые типы и уровни профессионализма; в сфере потребления возникает кризис невозврата кредитов; многие «перспективные проекты» оказываются нереалистичными; а поиск новых регионов для экономической экспансии национального бизнеса приводит к тому, что производство и некоторые другие службы этого бизнеса переносятся в более выгодные для его ведения страны, что увеличивает риск разрастания структурной безработицы.
Во внутренней политике новая экономическая стратегия привела к снижению «воспитательно-образовательной» миссии государства, которая замещалась программами, нацеленными на стимулирование роста потребления населения. Успех внутренней политики либерального государства определяется темпами роста ВВП, индексами потребительской активности населения, созданием новых рабочих мест. И бизнес, и власть заинтересованы в увеличении в стране уровня активного и платежеспособного спроса, а не нравственной чистоты нации или роста уровня образования граждан. Правда, геоэкономически активные страны часто прибегают к стратегии создания особых инкубаторов для разработки новых технологий, а наполнение этих зон рабочими кадрами обычно решается путем создания «интеллектуальных гетто» в виде привилегированных университетов и научных центров или же приглашения уже готовых специалистов из других стран.
Одна из проблем современных капиталистических стран (вырастивших в себе, по мнению Люттвака, особую, новую форму капитализма – турбокапитализм) заключается в том, что темпы развития технологий – финансовых, промышленных, научных, инфраструктурных – существенно опережают темпы развития всеобщего образования. Во-первых, система образования устарела в целом, а во-вторых, ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в его развитии. Правительство не считает нужным тратить деньги на образование по причине того, что у того нет своих лобби (за исключением сильных университетов, но, как уже отмечалось, они выводятся в особые «интеллектуальные гетто»), к тому же за имеющиеся бюджетные деньги и так идет непрестанная война.
Было бы ошибочным возлагать ответственность за повышение уровня образования и на бизнес. Ведь он не заинтересован в обучении широких народных масс, а кроме того, он не хочет за свои деньги выращивать себе конкурентов. Человеку, владеющему какой-то особенной бизнес-схемой или знающему, как капитализировать какую-либо технологию, выгодно не видеть на рынке других людей, способных сделать то же самое, поэтому он не будет ни делиться своим опытом, ни обучать своему искусству кого-либо еще. В период существования «контролируемого капитализма» [141]государство брало на себя расходы по поддержке образования населения на уровне, необходимом для развития национальной экономики. В условиях турбокапитализма население оказалось предоставленным самому себе, не имея ни ориентиров, ни средств для самообразования в ситуации, когда умение осваивать новые знания и навыки становится особенно важным для «экономического выживания» в быстро меняющихся условиях.
Турбокапитализм своим возникновением обязан, с одной стороны, естественной логике развития капитализма, вышедшего на уровень капитализации интеллектуальных ресурсов, а с другой – тому сдвигу в логике международного противостояния, которое Люттвак определяет как переход от геополитики к геоэкономике. Примерно в этот же период произошло и существенное изменение подходов к организации внутренней политики государства (особенно – в государствах англосаксонского блока). Как уже говорилось выше – произошел отказ от модели «контролируемого капитализма».
Формирование контролируемого капитализма прошло через несколько этапов. С конца XIX века или по крайней мере с первых десятилетий XX в западных странах начался процесс постепенного приручения свободного и дикого капитализма: ставились нормативные и правовые ограничения, регулирующие не только отношения между субъектами экономической активности, но и трудовые нормы взаимодействия работодателей и наемных работников. А после серии удавшихся и провалившихся социалистических революций внимание к проблемам социальной защищенности и социальных гарантий существенно возросло, особенно в европейских странах [142]. В какой-то мере ограничение капитализма и установление контроля над ним со стороны законодательства, правительств, профсоюзов, общественных организаций и политических партий предохраняло государства от угрозы социалистических революций. Социалистические принципы были как бы инкорпорированы в структуры капиталистических государств в виде особых регуляторов. Разные страны создали для себя свои варианты «контролируемого капитализма» [143].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу