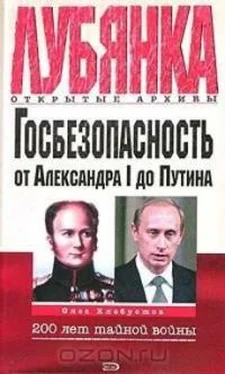Первый из них состоял в призывах к осуществлению в деревне традиционных (разгромы и поджоги имений, убийства помещиков и т.п.) форм крестьянской борьбы, что получило известное распространение в 1905-1907 гг. а также впоследствии - в 1915-1918 гг..
Начало этой тактики положила резолюция Женевской группы эсеров в
ноябре 1904 г., которая была поддержана частью ПСР в России, Крестьянским союзом, Союзом эсеров - максималистов[24].
"Фабричный" же терроризм состоял в признании необходимости нападений на представителей администрации предприятий, чиновников, штрейкбрехеров и т.д.
Следует также отметить, что значительное распространение в 1905-1907 гг. получил и так называемый "грабительский терроризм" связанный с осуществлением "экспроприаций" материальных средств, шантажом и тому подобными деяниями, причем нередко он был мотивирован не политическими, а корыстными мотивами.
Не являясь по сути проявлениями политического терроризма, эти акции, в свою очередь, также создавали своеобразный морально-психологический фон, настрой в обществе, следствием которого являлось все более укреплявшееся в сознании масс убеждение в том, что "винтовка рождает власть!", столь притягательное для любых последующих поколений террористов и политических радикалов.
Следует также особо подчеркнуть, что "наряду с "революционными", "левыми" террористическими организациями в 1905-1907 гг. возникали и действовали «в противовес» им и "правые" террористические группы в виде "боевых дружин" при "Союзе русского народа", "Союзе Михаила Архангела" и "Обществе активной борьбы с революцией". Эти организации также осуществляли ряд террористических акций, причем некоторые из них пытались представить как акции "левых экстремистов"[25].
Представляется небезинтересным рассмотреть также вопрос о начале международного сотрудничества государств в борьбе с терроризмом.
Ведь в конце XIX – начале ХХ веков, терроризм, особенно анархотерроризм, получил также значительное распространение во Франции, Испании, Германии, что способствовало и облегчало установление и налаживание контактов между правоохранительными органами европейских государств.
Например, еще в январе 1880 г. российское посольство в Париже, располагавшееся на бульваре Гренель, через свою агентуру установило, что под именем польского эмигранта Эдуарда Мейера здесь скрывается опасный государственный преступник, член Исполнительного комитета Народной воли и участник покушения на Александра II 30-летний Лев Гартман.
Произошло это важное для Ш Отделения открытие не без участия Петра Васильевича Корвин-Круковского (1844-1899), русского эмигранта, женатого на французской актрисе, и по совместительству осведомлявшего посольство о новостях эмигрантского мира.
Летом 1881 г., когда перепуганные монархисты решили начать карательный «крестовый поход» против «врагов трона и империи», Корвин-Круковский в качестве агента «Священной дружины» возглавил парижскую агентуру Департамента полиции.
Вскоре в помощь Петру Васильевичу из Петербурга прибывает проваленный на родине агент III Отделения Петр Рачковский, уже в марте 1884 г. сменивший Круковского на посту заведующего Заграничной агентурой (ЗАГ) Департамента полиции.
Мы уточнили эти обстоятельства потому, что ранее традиционно появление постоянной полицейской резидентуры во Франции связывали с именем Рачковского и, тем самым, затушевывали ее деятельность в предшествовавшие годы.
С хорошими связями в обществе, в том числе в политических и полицейских кругах, с немалыми личными амбициями, Рачковский на десятилетия стал проводником политики российского МВД во Франции, причем весьма успешным, не смотря на многочисленные авантюры и провалы…
3 февраля 1880 г. Гартман был арестован французской полицией по настоянию российского посла графа Орлова. Однако, несмотря на доставленные из Петербурга документы, свидетельствовавшие о причастности Гартмана к террористической деятельности, 7 марта он был освобожден из под ареста по настоянию прессы, будоражившей общественной мнение, с чем вынуждены были считаться французские республиканские власти.
Эти события, повлекшее известные осложнения в российско-французских отношениях, вошедшие в историю дипломатии как "инцидент Гартмана", казалось, могли надолго отвратить Петербург от развития отношений с Францией.
Но российское руководство решило избрать иной путь, установив доверительные отношения с МВД Франции, не забывая при этом, как будет показано далее, и о своих собственных интересах.
Читать дальше