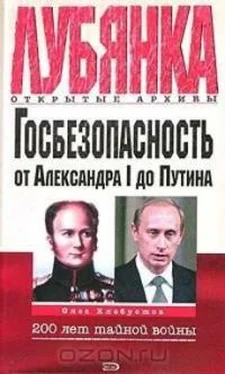Подписал: Директор Брюнь-де-Сент-Ипполит».
Однако главной «внутренней угрозой» самодержавию Департаментам полиции небезосновательно рассматривался терроризм.
Из истории борьбы с политическим терроризмом в России
Поскольку и сегодня терроризм называют одним из главных вызовов и угроз безопасности общества и государства, в рассказе о российских органах государственной безопасности нельзя обойти этой крайне важной, причем не только в историческом аспекте, проблемы.
В то же время, учитывая, что вопросу борьбы с политическим терроризмом в России посвящено немалое число cпециальных работ[1], остановимся на нем только под углом зрения мер, предпринимавшихся правоохранительными органами империи для ликвидации этой угрозы.
Следует однако подчеркнуть, что появление политического терроризма в России не было чем-то уникальным в тогдашней Европе: террористические идеи развивались, и по-видимому, оказывали влияние на умы и настроения наших соотечественников, в работах германских, итальянских, французских революционеров[2].
Первым актом политического терроризма в России XIX века явилось покушение на Александра II Д.В. Каракозова 4 апреля 1866г., приведшее к выявлению замысла создания целой террористической организации.
Покушение это, как отмечал полицейский историограф Н.Н.Голицын, "однако, исходило почти из личной инициативы, потому что заговор[3] имел очень мало участников и не обладал действительными связями с тогдашними революционными кружками"[4].
В ответ на покушение, "император призвал все общественные классы и сословия стать на путь порядка, отказаться от разрушительных, крайних идей, показать блительность и строгость; он призывал к умиротворению умов и сердец"[5].
О справедливости сказанного свидетельствует известная мягкость приговора в отношении членов замышлявшейся террористической организаци, но, что требуется подчеркнуть особо, не приступивших к реализации своих преступных намерений. Из 200 арестованных по делу о покушении, только 32 осенью 1866 г. были преданы суду. Пяти приговоренным к смертной казни заговорщикам она, "по высочайшей конфирмации", была заменена каторжными работами на 20 лет, но в 1871 г. все находившиеся на каторге были переведены на поселение[6].
Отметим также то чрезвычайно важное, на наш взгляд, обстоятельство, что террористические замыслы "ишутинцев" были вдохновлены слухами о некоем "Европейском комитете", ставившем своей целью совершение цареубийств, привезенными одним из членов кружка (И.А.Худяковым) из-за границы в 1865 г.. А также покушением на императора Наполеона III 4 января 1858 г. Тогда Ф.Орсини была брошена бомба, вследствие чего погибли около десятка человек. Это был не только первый случай применения в террористических целях взрывного метательного устройства, но и первый акт "рассеяного", "слепого терроризма"[7].
В то же время в нелегальной печати стал дебатироваться чрезвычайно важный политико-теоретический вопрос: а допустим ли террористический метод как средство революционной борьбы вообще?
Обстоятельный ответ на него, на наш взгляд, дает теоретико-политическая дискуссия, активно развернувшаяся в российском обществе в конце XIX - начале XX веков, на чем мы еще остановимся далее. А, в середине позапрошлого века, как известно, практический ответ на него дала сама история.
Отметим также и то обстоятельство, что полицейские чиновники, готовившие официальный обзоры революционного движения в России, не обвиняли его огульно в приверженности исключительно насильственным, террористическим методам борьбы.
Так, сообщая о деятельности петербургского комитета "Земли и воли", Н.Н.Голицын подчеркивал, что он отличался "от чисто террористических комитетов тенденциями более мирными, более реформаторскими и, прежде всего, демократическими"[8].
Хотя, как мы показали ранее, демократическая оппозиция подвергалась царским правительствам репрессиям подчас более жестоким, нежели лица, причастные к террористической деятельности.
Следующим шагом в развития политического терроризма стала известная попытка С.Г.Нечаева организовать "Народную расправу". И, по нашему мнению, ошибочным явилось опубликование в официальном "Правительственном вестнике" известного "Катехизиса революционера", обнаруженного в ходе одного из обысков по делу Нечаева.
Вместо дискредитации заговорщиков, на что рассчитывали власти, эта неосмотрительная публикация, по сути дела, стала своеобразным «учебным пособием» для будущих террористов.
Читать дальше