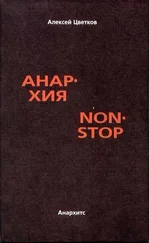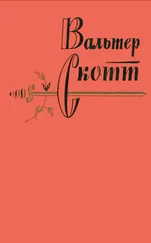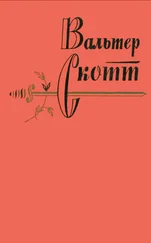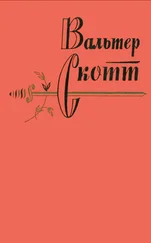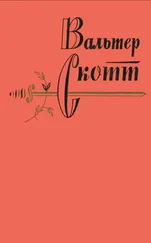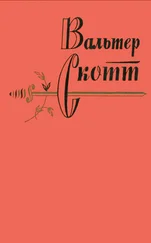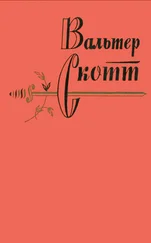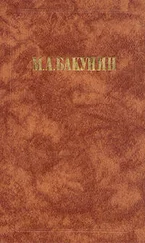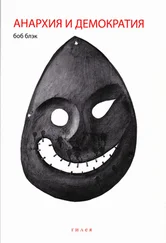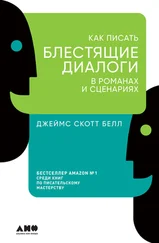Для гражданственности и демократии последствия постоянного раболепия тоже не предвещают ничего хорошего. Можно ли рассчитывать на то, что человек, который проводит свою сознательную жизнь в угождении и привык выживать в таких условиях, внезапно обретёт смелость и предстанет перед собравшимися горожанами мужественным, независимо мыслящим, отважным образцом индивидуальности и самостоятельности? Можно ли от диктатуры на рабочем месте перейти прямо к практике демократической гражданственности в общественной жизни? Авторитарная обстановка, бесспорно, формирует личность человека на глубинном уровне. Стэнли Милгрэм в своём знаменитом эксперименте показал, что большинство людей готовы бить других участников мощными, даже угрожающими жизни, электрическими разрядами, если им приказывают авторитетные люди в белых халатах. А Филипп Зимбардо обнаружил, что те, кого в своем психологическом эксперименте он назначил играть тюремщиков, настолько быстро стали злоупотреблять властью, что эксперимент пришлось прервать, пока они не натворили бед [18].
Если взглянуть ещё шире, то и столь разные философы, как Этьен де ла Боэси и Жан-Жак Руссо, были в равной степени глубоко озабочены тем, какие политические последствия имеют иерархия и автократия. Они полагали, что в таких условиях формируются скорее подданные, чем граждане. Подданные приучались к почтительности. Они были склонны заискивать перед начальством, вести себя по-рабски, когда надо — лицемерно, и редко высказывать собственное мнение, не говоря уже о сомнениях. Их поведение отличалось осторожностью, и при наличии собственного мнения, даже резко критического, они держали его при себе, избегая публично демонстрировать свои независимые суждения и нравственные предпочтения.
В наиболее тяжелых условиях «институционализации» (показателен даже сам этот термин), например, в тюрьмах, психиатрических лечебницах, детских домах, работных домах для бедняков, концентрационных лагерях и домах престарелых может возникнуть личностное расстройство, иногда называемое «институциональным неврозом». Это расстройство является прямым следствием длительной институционализации. Люди, страдающие им, апатичны, безынициативны, не проявляют интереса к окружающему миру, не стремятся планировать свою жизнь и абсолютно предсказуемы. Поскольку они сговорчивы и не доставляют хлопот, те, кто их контролирует, воспринимают их положительно — ведь они хорошо адаптируются к режиму учреждения. В самых тяжелых случаях они могут впасть в детство, что проявляется характерной позой и походкой (в нацистских концлагерях таких заключенных, находившихся при смерти от лишений, другие заключенные называли Muselmänner ), и становятся отрешенными и неконтактными. Вот что происходит в отсутствие контактов с окружающим миром, в результате потери друзей и имущества, а также по причине власти персонала над подопечными.
Меня волнует вопрос: не являются ли авторитарность и системность большинства современных социальных институтов — семьи, школы, фабрики, офиса, предприятия — причиной институционального невроза в легкой форме? С одной стороны институционального континуума можно разместить тоталитарные институты, которые планомерно уничтожают независимость и инициативу тех, кто им подвластен. А с другой стороны этого континуума — вероятно, какая-нибудь идеалистичная версия джефферсоновской демократии, состоящая из независимых, полагающихся на собственные силы, уважающих самих себя подотчётных самим себе фермеров-землевладельцев, управляющих собственными предприятиями, свободных от долгов и вообще не имеющих причин для угождения или пиетета. Такие свободные земледельцы, по мнению Джефферсона, были основой для активной и независимой общественной жизни, в которой граждане могли говорить то, что думают, бесстрашно и невзирая на лица.
Сегодня большинство граждан западных стран победившей демократии находятся где-то посреди между этими двумя крайностями. Общественная жизнь в их государствах ничем не ограничена, но институты, определяющие их повседневное существование, противоречат принципам, на основе которых строится эта общественная жизнь, так как они поощряют и часто вознаграждают осторожность, угодливость, услужливость и конформизм. Не порождает ли такое противоречие институциональный невроз, который подрывает жизнеспособность общественного диалога? Если посмотреть на этот вопрос шире, приводит ли кумулятивный эффект патриархальной семьи, государства и прочих системных институтов к тому, что субъект становится более пассивным, и ему не хватает спонтанной способности к взаимозависимости, которую так превозносят как анархисты, так и либерально-демократические теоретики?
Читать дальше