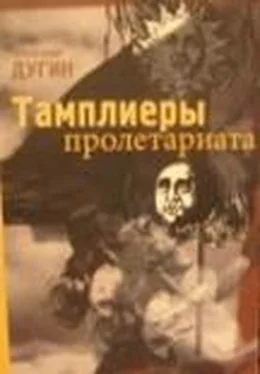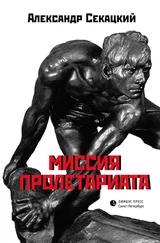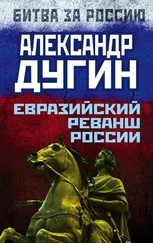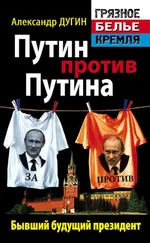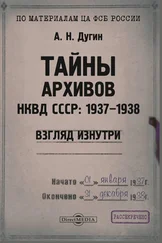Глобальное мировоззрение Клюева вытекает из принципиального дуализма, определяющего русскую душу и ее парадокс в последние три столетия — после раскола. Этот дуализм сводится к противопостоянию в самой Руси пары противоположных начал — актуального и потенциального, присутствующего и возможного, проявленного и потаенного, дневного и ночного. Начиная с фатального собора 1666-67 годов Русь как бы делится на две Руси.
Одна-официозная, формально отвергшая свою "эсхатологически-сотериологическую" функцию Москвы-Третьего Рима, осудившая Стоглав и доктрину национальной избранности русских как последнего православного народа, порвавшая со Святой Русью и чурающаяся древности как невежества, темноты, предрассудков, «порчи». Это Россия Романовых, Санкт-Петербурга, Петра, немецкой слободы, французских гувернеров, курортов Баден-Бадена, европейского Просвещения. Россия светская или стремящаяся стать таковой. Формальное суперконформистское внешнее православие, подчиненное Синоду. (Исихазм рассматривался этим «православием» почти как афонская секта еще в церковно-исторических работах XIX века; и это несмотря на канонизацию св. Григория Паламы!)). Десакрализованная монархия, копирующая протестантский север Европы.
Вторая Россия — Древняя Русь. Но Русь подпольная, мечтательная, предчувствуемая, живущая в параллельном мире, брезжущая, потаенная. Как Китеж. Но это не просто легенда, ностальгия, умонастроение, культурный мираж. Она имеет свою структуру. — Православное сектантство, социальные низы, казачьи станицы, политические нонконформисты. Даже во время официальных гонений на старообрядцев при Николае I, когда заявлять о своей вере для староверов и сектантов было не безопасно, по официальным статистическим справочникам- треть (вдумайтесь в эту цифру-треть!!!) всех русских людей исповедовала «еретические», с точки официального православия, культы-старообрядческие толки, скопчество, хлыстовство и т. д. Эта Вторая Русь была в духовной и социальной оппозиции светской России. Она дышала не существующим (прошлым и грядущим одновременно). Она бредила национальной альтернативой, рассматривала существующий порядок в апокалиптических тонах и страстно желала Пришествия.
Без союза с этой Второй Русью, без ее активной поддержки Октябрьской революции никогда не произошло бы. Путь Клюева, семантика и архитектура его пророчества — эссенция этого драматического момента тайной истории России. Для Клюева Революция есть эсхатологический возврат к допетровскому периоду: отсюда поразительная формула — "Советская Русь". Этим все сказано-именно «Русь», а не «Россия». Клюев откровенен:
Есть в Ленине керженский дух, Игуменский окрик в декретах. Как будто истоки разрух Он ищет в Поморских ответах.
Сами по себе "Поморские Ответы" были кодексом норм Православия Святой Руси, ушедшей в бега. Это завет подпольщикам. Революция — восстановление. Ленин — продолжатель дела Аввакума и братьев Денисовых. Не сомневающийся тон, а радикальное утверждение. Более того — пророческое свидетельство.
Но, естественно, не только к большевизму сводится пророчество крестьянского поэта. Хотя нельзя забывать и о его важнейших словах: "Убийца красный святей потира". На самом деле, это отождествление не было полным. Но не было оно и чистым заблуждением (как считает антикоммунистическое литературоведение). Здесь все тоньше. Вторая Русь проявила себя в Революции. Дала о себе знать. Но не воплотилась полностью, как-то зависла между обнаружением и сокрытием. Проявилось как бы "половина Китежа". Это-платоновский «Чевенгур». Победа налицо, а смерть не исчезла. Враг уничтожен, но Пришествие запаздывает. Поиск этого зазора, его осознание, его скрупулезное исследование составляет главную проблему для постижения смысла истории России в XX веке. Клюев-пророк России — должен нам в этом помочь.
Личная драма имеет характер свидетельства
То, что "не уместилось" в большевизме в случае личного и творческого пути Клюева, предельно прозрачно. Большевики на официозном уровне воспринимали свой приход как очередной шаг вперед, а, следовательно, оправдывали и предыдущий «буржуазный» этап в сравнении с феодальным. Конечно, в оценке Энгельсом и Марксом феодализма в сравнении с капитализмом сквозит почти откровенная симпатия. Но на уровне рационального дискурса марксизма это выражено не достаточно ясно, и даже, скорее, утверждается однонаправленная поступательность исторического процесса, а это входит в разрез с традиционным мировоззрением, основанным на идее циклического времени. Клюев был вполне солидарен с большевиками, пока дело касалось разрушения "романовской России". Для староверов это было "низвержение трона антихриста". Троеперстие виделось как десакрализация и глубинное извращение христианства, и поэтому антицерковная деятельность большевиков также часто воспринималась весьма положительно. Но когда дело дошло до модернизации, колхозов и откровенной агрессии против памятников далекой старины — возникло первое расхождение. Вначале это могло показаться недоразумением, искажением "основной линии". Постепенно, трагизм проявлялся все сильнее. Клюев тогда писал: "Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту народной жизни…" Гонения на Клюева и на крестьянских поэтов в целом (Есенин, Васильев, Клычков, Карпов и т. д.) не были просто эпизодом. В них проявилась первый раз двусмысленность советского социализма, неопределенность его духовной миссии, странность его циклического и эсхатологического значения.
Читать дальше