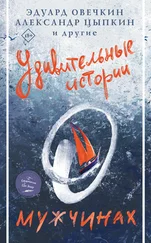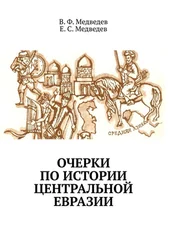Array Array - Конец истории и последний человек
Здесь есть возможность читать онлайн «Array Array - Конец истории и последний человек» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2004, Издательство: АСТ, Жанр: Политика, Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Конец истории и последний человек
- Автор:
- Издательство:АСТ
- Жанр:
- Год:2004
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Конец истории и последний человек: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Конец истории и последний человек»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Конец истории и последний человек — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Конец истории и последний человек», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Карл Маркс представляет один большой полюс критики Гегеля: он отрицал, что признание будет универсальным, потому что существование экономических классов этого не позволит. Но другой, более, быть может, глубокий критический взгляд принадлежит Ницше. Поскольку, хотя мысли Ницше никогда не были воплощены в движения масс или политические партии, как мысли Маркса, вопрос, который он поднял — о направлении процесса человеческой истории, — остался неразрешенным, и вряд ли он будет решен даже после того, как последний марксистский режим исчезнет с лица земли.
Для Ницше очень мало была разницы между Гегелем и Марксом, потому что этих двоих была одна и та же цель: общество, реализующее универсальное признание. Фактически он поднял вопрос: признание, которое может быть универсализовано, — стоит ли оно того, чтобы его получать? Разве качество признания не важнее намного, чем его универсальность? И разве цель универсализации признания не приведет неизбежно к его тривиализации и обесцениванию?
Последний человек Ницше — это, в сущности, побеливший раб. Ницше полностью согласен с Гегелем, что христианство — рабская идеология, а демократия — это секуляризованная форма христианства. Равенство всех июлей перед законом" — это реализация христианского идеала, что все верующие равны в Царствии Небесном. Но христианская вера в равенство всех людей перед Богом — не более чем предрассудок, порожденный негодованием слабых против тех, кто сильнее их. Христианская религия начиналась с осознания, что слабые могут победить сильного, если собьются в стадо, воспользуются оружием вины и совести. В новые времена этот предрассудок стал распространенным и неодолимым, не потому, что оказался правдой, а из-за огромного числа слабых людей. [448]
Либеральная демократия не составляет синтез морали господина с моралью раба, как утверждал Гегель. Для Ницше оно олицетворяет безусловную победу раба. [449]Свобода и удовлетворение господина ничем не обеспечены, потому что демократическим обществом никто фактически не правит. Типичный гражданин либеральной демократии — это человек, который, будучи воспитан Гоббсом и Локкому отбросил гордую веру в свое превосходство ради более удобного самосохранения. Для Ницше человек демократии состоит целиком из желания и рассудка; он искусен в отыскании новых способов удовлетворять массу мелких желаний путем тщательного расчета собственного долговременного интереса. Но он полностью лишен мегалотимии, доволен своим счастьем и абсолютно не испытывает стыда за свою неспособность подняться над мелкими желаниями. .
Гегель, разумеется считал, что современный человек борется не только за удовлетворение желаний, но и за признание, и получает его, когда ему универсальным и однородным государством предоставляются права. В наши времена действительно верно, что люди лишенные прав, борются за них, как это было и есть в Восточной Европе, Советском Союзе и Китае. Другое дело опять-таки, получают ли они удовлетворение как люди от самого акта предоставления прав. Вспоминается шутка Гручо Маркса, что он никогда не хотел бы быть членом клуба, который допустит его в свои члены: чего стоит признание, которое достается каждому только за то, что он — человек? После успешной либеральной революции вроде восточногерманской 1989 года от новой системы прав выигрывает каждый. И выигрывает независимо от того, боролся ли этот человек за свободу, был ли он доволен своим прежним рабским существованием или вообще работал на тайную полицию режима. Общество, которое с самого начала предоставляет такое признание ради удовлетворения тимоса, очевидно, лучше того, где каждому отказывают в человеческом достоинстве. Но разве предоставление либеральных прав само по себе является исполнением огромного желания, которое вело господина-аристократа на смертельный риск? И если даже многих удовлетворяет признание такого скромного типа, удовлетворит ли оно тех немногих, у кого натура куда более честолюбива? Если каждый полностью доволен всего лишь благом предоставления ему прав в демократическом обществе и не имеет иных стремлений, кроме простого гражданства, не сочтем ли мы сами его достойным презрения? А с другой стороны, если тимос остается существенно неудовлетворен универсальным и взаимным признанием, не покажет ли это критическую слабость демократического общества? [450]
Можно заметить внутреннее противоречие концепции универсального признания, наблюдая за движением "самооценки", появившимся в Соединенных Штатах последние годы. Пример его — комиссия по самооценке, учрежденная штатом Калифорния в 1987 году. [451]Это движение начинается с верного психологического наблюдения, что успешные действия в жизни происходят из чувства собственного достоинства, а если люди этого чувства лишены, то вера в собственную никчемность становится самовыполняющимся пророчеством. Начальная предпосылка, одновременно кантианская и христианская (пусть даже активисты движения и не знают своих интеллектуальных корней), состоит в том, что каждый человек есть человек, а потому обладает определенным достоинством. Кант сказал бы в христианской традиции, что все люди одинаково способны решать, жить им по моральному закону или нет. Но это универсальное достоинство зависит от способности человека сказать, что некоторые действия противоречат моральному закону, а потому дурны. Оценить себя по-настоящему — это значит иметь способность ощущать стыд или отвращение к себе, если не соответствуешь определенным стандартам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Конец истории и последний человек»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Конец истории и последний человек» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Конец истории и последний человек» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.