— На собственные средства я открыл в Москве два центра поддержки творческих сил...
— Знаем, — коровьевским фальцетом процедил я довольно громко, — Шереметьево-1 и Шереметьево-2...
Наша компашка захохотала, а граф недоуменно и растерянно поглядел на меня. Я же сказал Шейнину искренне:
— На месте организаторов я бы таких мерзавцев, как мы, не приглашал.
— А я бы приглашал, — возразил мне Шейнин. — Но ничего бы нам не оплачивал...).
Но вернемся в Дом музыки. Зовут, значит, Петра Петровича на сцену. А Церетели уже там. Маленький, как и Лужков, подвижный, с обезьяньим веселым и мгновенно становящимся злым лицом, он напоминает всех героев Транквилла одновременно. Тех, о которых Транквилл пишет как о клиентах размашистых римских императоров.
Я сам к Церетели отношусь лучше, чем многие москвичи. Дело в том, что, когда я живу в гостинице «Президент», меня всегда поселяют на почетной стороне. А почетная сторона выходит на Москва-реку и на церетелевский памятник Петру. По нему, собственно, я определяю, как по барометру, свое похмельное состояние. Если после бурной ночи он вызывает у меня рвоту, надо переносить встречи и оставаться в номере. Если же все эти завитушки и челны не будоражат желудок, значит, надо бросаться под холодный душ и работать. То есть я лично господина Церетели, говоря современным языком, интегрировал в сознание. А многие московские жители не сумели.
Впрочем, соотечественники, как мне показалось, твердого мнения о нем не составили.
Но между тем на сцене Церетели не ваяет, а раскрывает конверт. Не помню, как называлась номинация. То ли «За достоинство», то ли, как сказала бы Люба, «За графство». Но соперничало в ней три «их сиятельства». А победить был должен Лобанов-Ростовский. Дикий жох, объегоривший многих в Германии на антиквариате. Я проголосовал за него по причине красивой фамилии.
Но Церетели не стал вглядываться в бумажки.
Обернувшись к Шереметьеву, он начал задорную грузинскую здравицу:
— Мне доставляет удовольствие вручить награду моему старому другу и великому общественному деятелю... Мы знакомы с Петром Петровичем уже больше десяти лет. И вот на этой сцене мои чувства к этому необыкновенному человеку...
Кобзон терпел это славословие минуты полторы, потом аккуратно сказал в микрофон елейным голосом:
— Зура-а-бик... Ты ошибся...
— Что, Иосиф?! Ты хочешь сказать, мы знакомы с Петром Петровичем гораздо дольше? — подхватил Церетели, полагая, что Кобзон дает ему обычный актерский пас.
— Нет, Зурабик, — немножко кривя рот, брезгливо возразил Кобзон. —Ты не ошибся. Ты перепутал.
— Перепутал Петра Петровича?!
— Нет, перепутал графа Шереметьева с князем Лобановым.
«Зурабик» мгновенно отошел на шаг от Шереметьева и вгляделся в него соколиным взором. Его обезъянье лицо начинало набирать черты справедливой обиды:
— Я... перепутал... Петра Петровича с... князем... Как ты сказал?
— Зурабик. — невыносимо вежливо продолжил Кобзон. — Ты должен вручить награду князю Лобанову. Вручаете вы, как написано в сценарии, награду месте с графом Шереметьевым, — тут же прервал возражения скульптора певец. —Посмотри в бумажку...
Церетели прочел запись. Потом обиженно посмотрел на Кобзона, потом еще обиженней на Шереметьева, потом развел руками, взял Хрустальный шар из черного металла у юноши и ткнул графу в руки. В это время на сцену стал подниматься князь Лобанов.
— Вот и хорошо, — подытожил разобиженный Церетели, — вот и разберетесь между собой...
Когда он спускался, в зале хохотал один человек. Это был Лужков.
С этого места вечер начал, как говорится, клониться к закату.
Кобзон невзначай объявил выступление солистов балета Большого театра. Зал ахнул от ужаса: а как же страшная яма на сцене? Иосиф Давидович успокоил:
— Не волнуйтесь, они все равно заболели.
Наконец наступило и время апофеоза. Надо прощаться. Вызван на сцену Лужков и сказано, что он вместе с залом и Кобзоном (но уже без Бооса; кончились деньки золотые) исполнит негласный гимн Москвы — газмановскую «Москва. Звонят колокола». Что-то вроде конфетки-бараночки-гимназистки румяные, но только в армейско-трубном ритме.
Уже вышел на сцену Лужков. Взялись за смычки ошалевшие от ожидания скрипачи. А у стоечки сиротливо все стоит Шукшина.
Кобзон, заметив ее неподвижность, ласково прощается:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






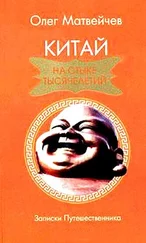


![Олег Матвейчев - Уши машут ослом [2-е издание]](/books/405055/oleg-matvejchev-ushi-mashut-oslom-2-e-izdanie-thumb.webp)


