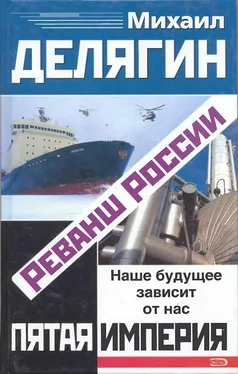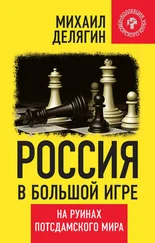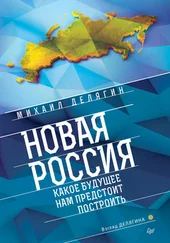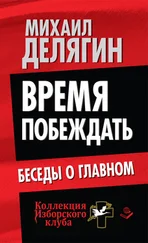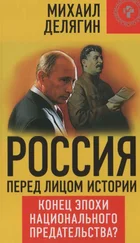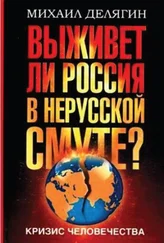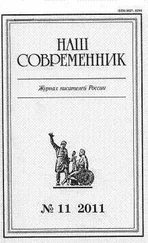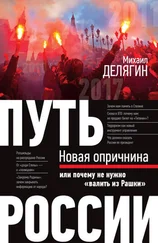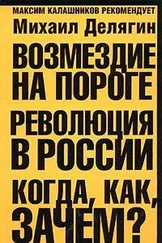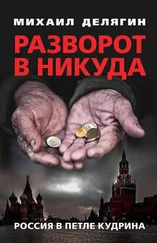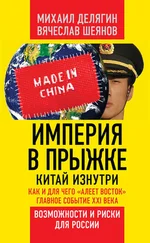Именно армия пролетариев знаний объективно предъявляет наибольшие претензии к современному государству, именно она фундаментально заинтересована в строительстве и укреплении государства, которое не просто вынужденно несет определенные социальные затраты, но которое должно в первую очередь осуществлять функции всевозрастающих социальных инвестиций в человека, то есть в образование, в науку, в здравоохранение. Все более и более очевидно, что без подобной ответственной функции общество больше не может воспроизводить ни себя, ни соответствующий уровень ценностей. Именно новый пролетариат знаний предъявляет самые высокие требования к уровню и качеству развития демократических институтов, способных обеспечить эффективный общественный контроль над самими целями глобального развития.
В постиндустриальных странах этот новый класс фактически является локомотивом всех позитивных изменений, вытаскивающим из глубины социального падения аграрных и промышленных рабочих, все меньше и меньше обладающих возможностями самостоятельной и квалифицированной политической борьбы. В странах второго и третьего мира он вступает в конфронтацию как с национальной бюрократией, так и с олигархическими кланами, паразитирующими на природной ренте либо на разгосударствленной собственности. Этот социальный класс, с одной стороны, придает целостность всей вертикали общественных отношений снизу доверху, а с другой — объединяет миры и цивилизации объективной общностью своих социальных, политических и гуманитарных запросов.
3.3. Преобразование проблемы собственности
Это один из самых принципиальных моментов в современной оценке развития общемировых социальных и политических процессов, по-новому представляющий и перспективы нашей политической практики, и горизонты нашей развивающейся теории. Весь предшествующий период истории в полтора столетия был временем, когда основным ядром всей общественной и политической полемики был вопрос о собственности и, соответственно, о неизбежной связи частной собственности с угнетением и эксплуатацией или, напротив, обобществления — с освобождением от эксплуатации. Сегодня есть все основания утверждать, что в такой своей форме эта проблема утрачивает свой смысл.
Мы помним, как объективный и глубокий марксистский анализ еще в позапрошлом веке вскрыл такие исторические ограничения частной собственности, которые не смогли в полной мере опровергнуть ни либеральные теоретики, ни сама история. В то же время мы убедились и в том, что тотальная государственная собственность не только не устраняет общественные противоречия, но, напротив, порождает их в новом виде. Более того, мы знаем, что монопольно-политическое распоряжение ресурсами государственной собственности практически неминуемо порождает соответствующий господствующий класс государственной бюрократии и новые формы угнетения. Мы убедились на недавней практике и в том, что разгосударствленная собственность, превратившись в частную, не «заработала» с умноженной эффективностью, а лишь реставрировала на постсоветском пространстве самые жуткие образцы хрестоматийного капитализма.
Можно утверждать, что в известном смысле произошла определенная девальвация проблемы собственности. Но не экономическая бесперспективность дискредитирует государственную собственность, ибо существует множество примеров, когда именно концентрация государственного капитала на стратегических направлениях развития приводила к прорывам и модернизации. Не только эксплуататорский характер частной собственности дискредитирует этот базовый элемент отношений, ибо в современном мире есть немало примеров, когда при разумно функционирующей частной собственности общество достигало не меньшей социальной справедливости, чем в странах социализма. И та же рыночная экономика является действенной моделью последовательного прогресса, если общество демократически определяет и контролирует ее главные цели: эффективность, общее благосостояние, свобода выбора. С тем большей очевидностью проступает вывод: важны не столько конкретные формы собственности, сколько формы общесоциальной мотивации тех, кто управляет, распоряжается и владеет собственностью. Можно сказать еще конкретнее: все зависит от того, каковы общественно-признанные цели развития, как происходит итоговое перераспределение национального дохода, каковы механизмы контроля всего общества за властью. Проблема собственности переместилась сегодня из проблемы владения в проблему управления стимулами развития, из проблемы контроля над источниками предпринимательской деятельности в проблему общегражданских механизмов контроля ее результатов.
Читать дальше