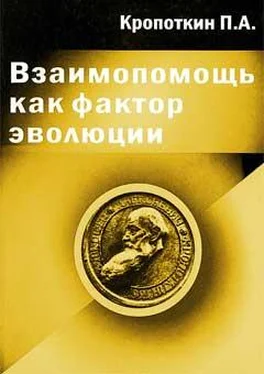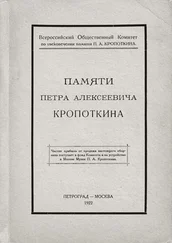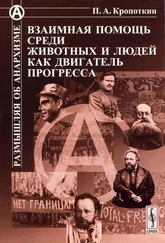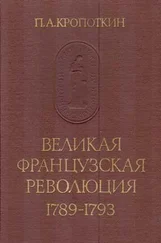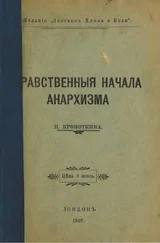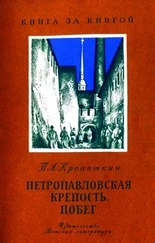Если взгляды, развитые на предыдущих страницах, правильны, то естественно возникает вопрос: насколько они согласуются с теорией о борьбе за существование в том виде, как она была развита Дарвином, Уоллэсом и их последователями? И я вкратце отвечу теперь на этот важный вопрос. Прежде всего, ни один натуралист не усомнится в том, что идея о борьбе за существование, проведенная через всю органическую природу, представляет величайшее обобщение нашего века. Жизнь есть борьба; и в этой борьбе выживают наиболее приспособленные. Но если поставить вопрос: «каким оружием ведется главным образом эта борьба?» и «кто в этой борьбе оказывается наиболее приспособленным?» то ответы на эти два вопроса будут совершенно различны, смотря по тому, какое значение будет придано двум различным сторонам этой борьбы: прямой борьбе за пищу и безопасность между отдельными особями, и той борьбе, которую Дарвин назвал «метафорическою», т. е. борьбе, очень часто совместной, против неблагоприятных обстоятельств. Никто не станет отрицать, что в пределах каждого вида имеется некоторая степень состязания из-за пищи, хотя бы по временам. Но вопрос заключается в том, — доходит ли это состязание до пределов, допускаемых Дарвином, или даже Уоллэсом? И играло ли оно в эволюции животного царства ту роль, которая ему приписывается? Идея, которую Дарвин проводит через всю свою книгу о происхождении видов, есть, несомненно, идея о существовании настоящего состязания, [74] Дарвин употребляет слово Competition, которое по французски приходится переводить слово competition, а по-русски, большею частью, переводится соревнование, или соперничество. В данном случае, слово состязание лучше, мне кажется, передает дарвинское competition. Автор .
борьбы, в пределах каждой животной группы, из-за пищи, безопасности и возможности оставить после себя потомство. Он часто говорит об областях, переполненных животной жизнью до крайних пределов и из такого переполнения он выводит неизбежность состязания, борьбы между обитателями. Но если мы станем искать в его книге действительных доказательств такого состязания, то мы должны признать, что достаточно убедительных доказательств — нет. Если мы обратимся к параграфу, озаглавленному: «Борьба за существование — наиболее суровая между особями и разновидностями одного и того же вида», то мы не найдем в нем того обилия доказательств и примеров, которые мы привыкли находить во всякой работе Дарвина. В подтверждении борьбы между особями одного и того же вида, не приводится под вышеупомянутым заголовком ни одного примера: она принимается как аксиома; состязание же между близкими видами животных подтверждается лишь пятью примерами, из которых, во всяком случае, один (относящийся к двум видам дроздов) оказывается по позднейшим наблюдениям сомнительным. [75] Один вид ласточек, как утверждают, вызвал уменьшение численности одного другого вида ласточек в Северной Америке; недавнее увеличение в Шотландии числа дроздов, больших рябинников (Т. viscivorus), повело к уменьшению числа певчих дроздов; бурая крыса заняла место черной крысы в Европе; в России маленькие тараканы везде вытеснили своих более крупных сородичей; и в Австралии привозные ульевые пчелы быстро истребляют туземных маленьких, безжалых пчел. Два другие случая, но относящиеся уже к прирученным животным, упомянуты в предшествующем параграфе. Приводя те же факты, А.Р. Уоллэс, замечает в сноске, по поводу Шотландских дроздов: «Проф. А. Ньютон, однако, сообщает мне, что эти виды не сталкиваются между собой, таким образом, как сказано» («Darwinism», стр. 34). Что же касается до бурой крысы, то известно, что, вследствие ее земноводных привычек, она обыкновенно водится в низко лежащих помещениях человеческих жилищ (в подвалах и водосточных трубах и т. д.), а также на берегах каналов и рек; она пускается в отдаленные переселения, собираясь для этого бесчисленными стадами. Черная же крыса, напротив, предпочитает помещаться в самих людских жилищах, под полами, а также в конюшнях и амбарах. Она, таким образом, подвергается в гораздо большей степени опасности быть истребленной человеком; и поэтому нельзя утверждать, с какой бы то ни было степенью уверенности, чтобы черная крыса истреблялась, или вытеснялась, путем лишения пищи, бурою крысою, а не изводилась человеком.
Но если мы станем искать дальнейших подробностей, с целью убедиться, насколько уменьшение одного вида действительно обуславливается возрастанием другого вида, то мы найдем, что Дарвин, со своей обычной прямотой, говорит следующее:
Читать дальше