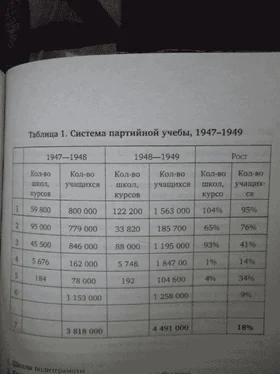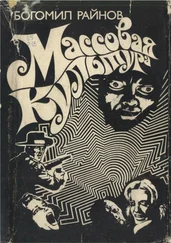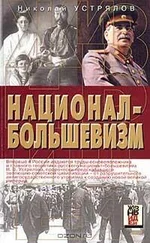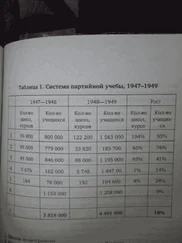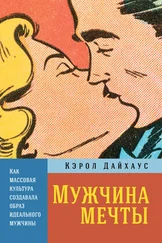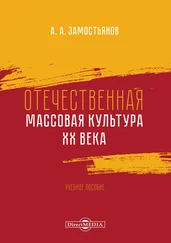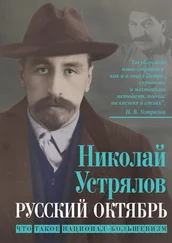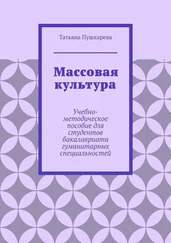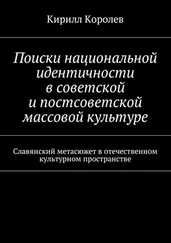Большинство расхождений обусловлено тем, что очень сложно выявить происхождение руссоцентричной риторики и системы образов в середине 1930 годов. Истоки руссоцентризма в сталинской массовой культуре трудноразличимы из-за одновременных пропагандистских кампаний, ратующих за «советский патриотизм» и «дружбу народов» [10] О таких одновременных нарративах см.: Simon. Nationalism's und Nationalitatenpolitik; Martin. The Affirmative Action Empire. Chap. П. См. особенно S. 451-457.
. Кроме того, отсутствие целого ряда принципиально важных архивных фондов усложняют исследование скрытого от посторонних глаз механизма принятия политических решений [11] Так, например, до наших дней сохранилась лишь часть документов, разработанных различными ответственными за пропаганду управлениями ЦК (Культпроп, Агитпроп) и их главными деятелями (А. И. Стецкин, Б. М. Волин) в 1930 годы. Подробнее см. путеводитель РГАСПИ копией 125 фонда 17.
. Тем не менее, существуют источники, способные пролить свет на развитие идеологии между 1931 и 1956 годами. Главный тезис настоящего исследования состоит в следующем: в течение 1930 годов партийное руководство было настолько озабочено государственным строительством [12] Под «государственным строительством» государственники-адепты этатистской идеологии — понимали не только территориальное расширение, но и внутреннее упорядочивание, т.е. процессы, обслуживаемые государственническими формами патриотизма.
, массовой мобилизацией и обретением легитимности, что прибегало к руссоцентризму как к популистской идеологии. Другими словами, для партийной верхушки 1930 годов на передний план вышел своего рода прагматизм; стало ясно, что утопичный пролетарский интернационализм, определявший советскую идеологию в течение первых пятнадцати лет, на самом деле практически свел на нет все попытки мобилизовать общество на индустриализацию и войну. В поисках более сильной вдохновляющей идеи Сталин и узкий круг его приближенных в итоге остановились на руссоцентричной форме этатизма как на самом действенном способе поддержать государственное строительство и достичь массовой лояльности режиму.
Однако данный национал-большевистский курс был не просто способом мобилизовать русскоговорящее общество на индустриализацию и войну, — он обозначил собой преображение советской идеологии: молчаливое признание превосходства популистских и даже националистических идей над пропагандой, построенной вокруг принципов утопического идеализма. Прагматичное, если не сказать совершенно циничное, использование сталинской партийной верхушкой русских национальных героев, мифов и системы образов для популяризации господствующего марксистско-ленинского курса явилось сигналом символического отказа от прежней революционной традиции в пользу стратегии, рассчитанной на мобилизацию массовой поддержки непопулярного режима любыми средствами. И последнее, — и самое интересное — этот идеологический переворот должен рассматриваться как катализатор формирования массового национального самосознания в русскоговорящем обществе с конца 1930-х до начала 1950 годов — наиболее жестоких и трудных лет советского периода.
Основой для настоящего исследования послужили продуктивные идеи таких выдающихся теоретиков, как Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум и М. Хрох [13] Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. ed. New York , 1991; Ernest Geltoer. Nations and Nationalism. Ithaca , 1983; Eric Hobsbawm. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. New York , 1990; Miroslav Hroeh. Social Preconditions of the National Revival in Europe . Cambridge , Eng. , 1985.
. По их мнению, печать и народное образование играют ключевую роль в распространении национального самосознания от социальных элит к простым людям во всем обществе в целом.
Рассматривая подобное «национальное пробуждение» в большинстве стран Европы в течение второй половины XIX столетия, Андерсон определяет процесс формирования нации как процесс, при котором огромное разобщенное скопление индивидуумов, зачастую не объединенных ничем, кроме общего языка, побуждается к «воображению» себя национальным сообществом. Р. Брубейкер, Дж. Брейли, П. Брасс и другие подчеркивают роль корыстных политических дельцов и государства в этом процессе [14] Anderson . Imagined Communities. P. 20-24, 46-49, 55-62, 97; Git Stokes. Cognition and the Function of Nationalism//Journal of Interdisciplinary History. 1974. Vol. 4. № 4. P. 536-542; Geltoer. Nations and Nationalism P. 19-38, 48-49; Rogers Brubaker. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe . Cambridge , Eng. , 1996. P. 46-47,56, 115-116, и др.; John Breuilly. Nationalism and the State, 2d ed. Chicago , 1993; Paid Brass. Ethnicity and Nationalism. London , 1991. Chap. 2.
. Важно отметить, однако, что из-за сложного ряда причин, национальное самосознание в русскоговорящем обществе оставалась в зачаточном состоянии и была полна внутренних противоречий значительно дольше, чем в других европейских обществах, приняв современную, систематическую форму только в сталинскую эру, много лет спустя после падения старого строя. В настоящей монографии обсуждаются обстоятельства, сопутствовавшие позднему развитию русского национального самосознания, а также последствия его формирования в одном из наиболее авторитарных обществ XX века.
Читать дальше