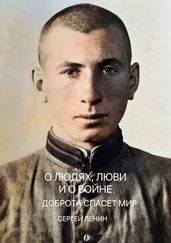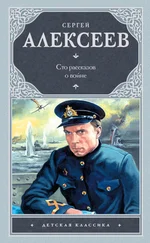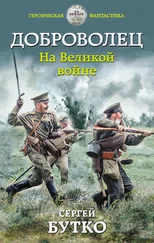Даже современные военные конфликты, в том числе война на Балканах, в военном смысле не могут рассматриваться как показательное для оценки будущего явление. Скорее всего, даже с учетом политических целей будущих войн это повод для сомнений в прогнозах характера военных операций первой четверти 21 столетия. В самом деле, достаточно представить себе продолжение операции НАТО против СРЮ в сухопутном варианте или не предвзято взглянуть на столкновение российской армии с «чеченскими бандами», как будет ясно, — «только слабость порождает агрессию». Но так же верно то, что решительность способствует достижению победы там, где по расчетам формальных стратегов ее, казалось бы и быть не может.
Нет сомнения в том, что показательные войны на Ближнем Востоке, на Балканах и военные действия в других горячих точках уже по этим причинам не могут показаться столь уж «типичными» для среднесрочной и длительной перспективы, чтобы на их основе строить большую стратегию и планы строительства Вооруженных сил России. Но не учитывать такие перспективы в части анализа основных направлений развития вооруженных сил потенциальных противников было бы непростительной глупостью.
Очевидно, что необходим реалистический прогноз развития и направлений военного строительства иностранных государств, но также необходимо провести объективный анализ долгосрочной политики и оперативно–стратегических концепций ведущих стран мира так или иначе выступающих для России в качестве конкурентов, если не прогнозируемых противников.
А поскольку такого прогноза мы не имеем, то остановимся на том, что в ближайшем будущем столкновение противников, оснащенных пока только экзотической и качественно иной, чем ныне, техникой «шестого поколения» вряд ли возможно. Очевидно, что масштабное применение массовых вооружений «шестого поколения» даже против слабого по оснащенности, но имеющего значительные ресурсы противника ничего не изменит в характере войны в ее обычном понимании.
Более того, наличие типичного для современных армий вооружения «четвертого–четвертого+ поколения», которые останутся массовыми, по крайней мере, еще лет двадцать пять, не исключает, а предполагает проведение скоротечных операций именно классического типа. В соответствии с этим вряд ли произойдет существенное изменение тактики и оперативного искусства, то есть способов применения вооружений.
Самое забавное, что именно Соединенные Штаты с их повальной компьютеризацией являются наиболее уязвимым для чисто информационной атаки государством… Если перевооружить действующую армию согласно последнему слову высоких информационных технологий под силу лишь горстке богатых промышленных стран, то обычные персоналки с модемами вполне общедоступны, а дюжину искусных хакеров можно отыскать в любом регионе земного шара. «Тут не потребуется много денег, замечает отставной пентагоновец Дональд Лэтэм. — Дайте нескольким головастым парням рабочие станции с модемами, и эти ребята с удовольствием развалят для вас экономику целой страны». (А раз уж война ведется за мониторами — то хакер и есть подлинный солдат будущей профессиональной армии. Граница между военными и штатскими лицами делается весьма условной и расплывчатой, когда армейскими компьютерами манипулируют преимущественно талантливые вольнонаемные.)
«Что такое компьютер? Великий уравнитель! — рассуждает известный футуролог Алвин Тоффлер. — Совсем не обязательно быть большим, сильным и богатым, дабы успешно использовать интеллектуальное дзюдо, столь необходимое в информационной схватке… И потому в бедных странах подобное боевое искусство наверняка будет развиваться опережающими темпами». Кстати, в этом смысле весьма неприятным соперником США стала бы Россия, которая при всей своей нынешней технической отсталости может похвастать множеством блестящих ученых умов, а уж наши изворотливые программисты крайне высоко ценятся и в самой Америке.
Между прочим, хотя компьютеры Пентагона, ведающие непосредственно боевыми действиями, очень недурно защищены, то с прочими, которые подключены к публичным каналам связи, дела обстоят намного хуже: посторонние покушаются на их защиту до 500 раз в сутки, при том что засечь удается не более 25 нелегальных юзеров, а привлечь к официальной ответственности всего двоихтроих. Подобная доступность — врожденный порок тех машин, что изначально сконструированы для общения с Internet, которая, кстати, и сама является порождением Пентагона. Вот и получается, что главная трудность — это залезть в первую машину, после чего 90% компьютеров пентагоновской сети (в том числе и многие секретные!) станут воспринимать взломщика в качестве совершенно законного юзера.
Читать дальше


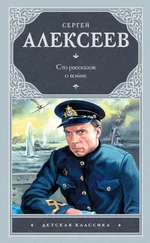
![Сергей Синякин - Горькая соль войны [сборник]](/books/394613/sergej-sinyakin-gorkaya-sol-vojny-sbornik-thumb.webp)
![Сергей Бутко - Доброволец. На Великой войне [litres]](/books/405557/sergej-butko-dobrovolec-na-velikoj-vojne-litres-thumb.webp)
![Сергей Савелов - Подготовка к выполнению замысла [СИ]](/books/415703/sergej-savelov-podgotovka-k-vypolneniyu-zamysla-si-thumb.webp)