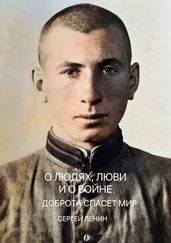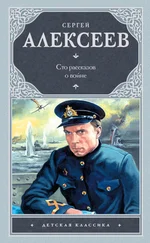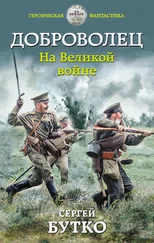Другой связан с тем, что в процессе глобализации утверждается новое разделение труда между территориями (независимо от того, сохранится ли их государственная определенность и оформленность), закрепление за ними определенных функций в мировом хозяйстве.
Есть основания говорить о том, что России в нем может выпасть доля сырьевого придатка и кладбища вредных отходов. «Ее (глобализации) преимущества и риски распределяются неравномерно, и рост и достаток, которые она несет одним, компенсируются все большей уязвимостью и маргинализацией других», говорит Кофи А.Аннан. Не относится ли к этому ряду бегство капиталов, поток которых из России составляет порядка 20 млрд. долл. в год, что, кстати сказать, определяет крайне низкую долю накоплений в ВВП примерно в 1,5 раза меньше, чем в развитых странах. Еще один вызов заключается в том, что «технические достижения и открытые границы, которые позволяют коммерческим фирмам налаживать производство товаров и оказание услуг на транснациональном уровне, открывают возможность выхода на международный уровень и перед террористическими организациями, преступными синдикатами, торговцами наркотиками и лицами, участвующими в «отмывании» денег».
События в Чечне показали, что наше государство не имеет эффективной стратегии и средств для ответа на этот вызов. Глобализация это данность. Включение в нее имеет безальтернативный характер.
Здесь действует правило, которое можно сформулировать так: история ведет тех, кто считается с объективным ходом вещей, остальных тащит. Но это вовсе не значит, что безальтернативна сама глобализация. Еще совсем не факт, что она должна развертываться по модели, безразличной к интересам и судьбе России. Россия имеет достаточный потенциал, позволяющий определять события, а не тащиться за ними. Ее стратегия должна ориентироваться на оптимальные для России направления, формы, темпы включения в процессы глобализации.
Предположим, глобализация магистральный путь, вдоль которого сосредоточены все блага, необходимые для нашего существования. Сойти с этого пути обречь себя на гибель. Но, находясь на нем, мы должны сами позаботиться о том, чтобы несущий нас транспорт (гоголевскую Русь–тройку) не понесло в кювет, чтоб он благополучно обошел встречающиеся препятствия, чтоб не оказался подмятым или затертым другими. Здесь возникает еще один вызов, ответ на который предстоит определить. Речь о диалектике либерализма, консерватизма, социализма.
Думается, совершенно необоснованно преданы забвению некогда гонимые идеи конвергенции. В этой связи представляется важным солидаризироваться со словами В.Путина о том, что «достижение необходимой динамики роста проблема не только экономическая.
Это проблема также политическая и, не побоюсь этого слова, в определенном смысле идеологическая. Точнее, идейная, духовная, нравственная». Суть проблемы становится ясной, если учесть существующие в нашем обществе и политической элите противоречивые идеи о возможности и пределах вмешательства государства в экономическую жизнь страны. В свое время В.Путин говорил: «Мы находимся на этапе, когда даже самая верная экономическая и социальная политика дает сбои при проведении ее в жизнь из–за слабости государственной власти, органов управления. Ключ к возрождению и подъему России находится сегодня в государственно–политической сфере. Россия нуждается в сильной государственной власти и должна иметь ее».
Кстати сказать, нет единства позиций и в обществе. Всероссийский опрос, проведенный ВЦИОМ в апреле 2000 г., показал, что 79% выступают за усиление государственного контроля над экономикой, 72% за национализацию ключевых отраслей экономики, 64% положительно относятся к поддержке частного предпринимательства.
Отправной точкой для выработки стратегии должно быть признание того, что Россия великая держава и другой быть просто не может. Важно иметь в виду, что вопрос о величии страны невозможно решать сугубо логическими методами. Это «не Верхняя Вольта с атомной бомбой».
Четвертый вызов как раз и заключается в том, что в мире (и в стране) есть немало охотников, заинтересованных в том, чтобы на геополитическом пространстве хартленда не было бы единого, целостного, а следовательно, мощного социального организма.
Но им противостоит значительно больше тех, кому «за державу обидно» и для кого «жила бы страна родная и нету других забот» не пустые слова для ерничанья. К сожалению, сложилось так, что таких людей судьба развела по разные стороны в 1991 и 1993 гг. Но они могут и должны преодолеть раскол, возрождение величия России того стоит.
Читать дальше


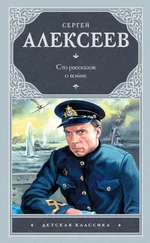
![Сергей Синякин - Горькая соль войны [сборник]](/books/394613/sergej-sinyakin-gorkaya-sol-vojny-sbornik-thumb.webp)
![Сергей Бутко - Доброволец. На Великой войне [litres]](/books/405557/sergej-butko-dobrovolec-na-velikoj-vojne-litres-thumb.webp)
![Сергей Савелов - Подготовка к выполнению замысла [СИ]](/books/415703/sergej-savelov-podgotovka-k-vypolneniyu-zamysla-si-thumb.webp)