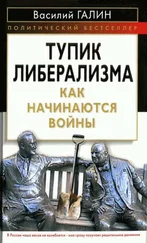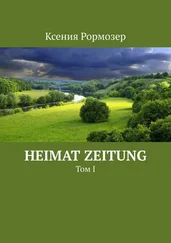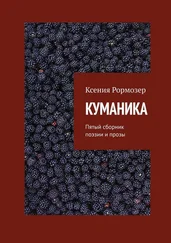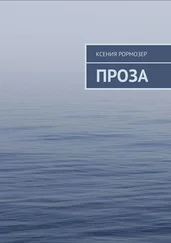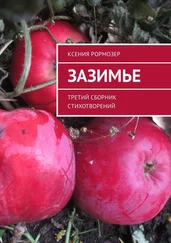Можно, однако, задать вопрос: является ли воля к выживанию достаточным мотивом, чтобы человечество преодолело экологический кризис? При всей своей критике эпохи Нового времени и ее философии Ханс Йонас делает ставку на то, что заинтересованность человека в самосохранении настолько велика, что можно доверить судьбу и других людей ему самому. Нужно, дескать, только достаточно убедительно довести до сознания людей истинные масштабы экологического кризиса. Здесь Ханс Йонас, пожалуй, заблуждается.
История свидетельствует совершенно о другом. Когда люди не видят в своей жизни никакого смысла, они предпочитают саморазрушение тому, чтобы продолжать обычную жизнь ради одного лишь сохранения этой жизни. И как иначе понять всю проблематику наркомании, добровольно избранного и сознательно осуществляемого человеком саморазрушения?
Именно в наше время, когда либертаризм сочетается в Германии с цинизмом, становится очень сомнительно, могут ли быть эти люди вообще заинтересованы в выживании человечества. В этом мире, который они считают лишенным смысла, их занимает только собственное счастье, хотя в действительности они нередко занимаются просто саморазрушением. И с чего им тогда так уж особенно интересоваться выживанием грядущих поколений?
С этим связан дальнейший философский вопрос, на который общество либертаризма едва ли способно дать убедительный ответ: почему человечество должно вообще выжить? То, что человечество хочет выжить, это можно предполагать. Но кто говорит, что оно должно выжить?
В этом вопросе философская этика упирается в непреодолимую границу. Ханс Йонас своим ответом разделяет всю наивность современной антропологии. Парадокс состоит в том, что именно преследуя интересы своего самосохранения люди занимаются саморазрушением, действуя притом совершенно сознательно. Так что уповать на интерес людей к самосохранению в качестве основы этики спасения природы было бы недостаточно.
Решающий вопрос поставлен следующим образом: кто защитит человека от его стремления к саморазрушению? Фрейд назвал это влечение "влечением к смерти". То, что люди допускают существование экологического кризиса таким образом, как это мы наблюдаем сегодня, свидетельствует со всей очевидностью о равнодушии человека и людей к своему самосохранению.
Тот, кто хотел бы уберечь людей от такого отношения, не минует вопроса о религии. Единственной духовной силой в мире, способной удержать человека от иррациональных форм саморазрушения, являются мировые религии, в нашем случае христианство. Этот эмпирический факт нужно признать.
Перейдем теперь к утверждению, которое уже упоминалось ранее, будто именно христианство несет ответственность за разрушение природы. И разве нет и в самом деле в Библии фразы "подчините себе землю"? Выходит, только в библейской религии человеку поручается обратиться к природе с целью ее покорения.
Для таких критиков христианства как публицист Карл Амери собственную причину экологического кризиса представляет христианство, в то время как современная научно-техническая цивилизация рассматривается лишь как результат реализации этого императива, сформулированного якобы вначале христианством.
В отношении упомянутой библейской фразы нужно объяснить, что понималось в античном мире под "господством". "Господство над природой", о котором говорится в приведенной библейской фразе, не имело для христианства того смысла, который вкладывается нами ныне в понятие господства человека над природой. Для античных представлений "господство" означало в этом контексте "заботу о природе". Подданные вверялись властителю для забот над ними, а не для тирании и произвола.
Смысл библейской фразы состоял не в поручении разрушать природу, а как раз наоборот, в сбережении природы. Природе хотели дать имя, чтобы она перестала быть безымянной. Дав ей имя, можно было ввести ее в мир человека и превращать природу в культуру. Изначальная миссия была, таким образом, не разрушительной, а культуросозидающей. Не произвольная, безграничная и безудержная эксплуатация природы имелась в виду в той библейской фразе, а заботливое обхождение с добром, доверенным человеку. Забота о природе, а не господство над ней.
Но каким образом из этого первоначального завета заботиться о природе могло вырасти впоследствии представление о необходимости господства, несомненно, способствовавшее прогрессирующему разрушению природы?
Читать дальше