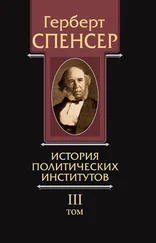Несмотря на все свои противоречия, Гоббс и Монтескьё верили, что страх и террор были инструментами власть предержащих. С приходом французской революции и порожденного ею века демократии политические писатели перевернули это предположение с ног на голову. Политический страх теперь считался эманацией низов, души и культуры масс. Для Токвиля этот новый политический страх был тем, что я называю тревогой, т. е. постоянное беспокойство и нервозность народа, возникшие с падением традиционного авторитета власти и изоляции современного общества, без ясного объекта или фокуса. Тревога не была продуктом законов, институтов, элит или образования; она расцвела в их отсутствие. Не было это и реакцией на деспотического правителя, так как считалось, что век деспотов уже миновал. Демократия — безличная, бесформенная власть масс — стала центром внимания, и тревога была ее естественным психическим состоянием. В ответ на глубокое беспокойство, утверждал Токвиль, массы стремятся к строгому поборнику дисциплины, который мог бы принести обществу единство и порядок. Из данного стремления появится новый тип деспотизма — государство, регламентирующее каждую деталь повседневной жизни, государство более мощное, более агрессивное и навязчивое, чем его предшественники. Там, где Гоббс и Монтескьё полагали, что репрессивные действия властей порождают страх или террор среди бесправных, Токвиль и его последователи верили, что тревога низов давала право на репрессивные акты верхам. Но как Гоббс и Монтескьё, Токвиль полагал, что если нам удастся развить более чистый и здоровый страх этих перспектив, мы сможем разработать политические инструменты, которые смогли бы держать под контролем местные институты, гражданские ассоциации и консолидированное гражданское общество, столь восхваляемое сегодня многими интеллектуалами.
В идее тотального террора Ханны Арендт мы приходим к апофеозу этого интеллектуального развития. Как и ее предшественники, Арендт думала, что понятие тотального террора, воплощенного в нацистской Германии и сталинской России, может служить почвой новой политической морали. Как Монтескьё, она полагала, что террор был отчасти продуктом насилия. Как и Токвиль, она считала, что именно беспокойные массы создали политический аппарат, действовавший так деспотично. К этому сочетанию она добавила понятие идеологии, абсолютную, фанатичную веру в такие доктрины, как нацизм и коммунизм, которые взывали к одиноким людям, отчаянно нуждавшимся в утешающей правде. Хотя представление Арендт о тотальном терроре было впоследствии раскритиковано историками и социологами, оно находило обширную аудиторию в течение холодной войны и после 11 сентября. В «Остатках дня» я вижу возрождение Арендт, так же как и устойчивое современное влияние анализов террора и тревоги, данных Монтескьё и Токвилем. Я утверждаю, что все эти недавние диагнозы страха имеют те же недостатки, которые были у их предшественников, — игнорирование политических измерений страха, сокрытие его репрессивных функций и неравных последствий и надежду на то, что страх сможет послужить почвой политического обновления.
Неважно, насколько сильны орудия; не в них, господа судьи, находится настоящая сила. Нет! Не способность масс убивать других, но их великая готовность умереть — вот что обеспечивает в конечном итоге победу народного восстания.
Лев Троцкий
Томас Гоббс родился 5 апреля 1588 года, накануне вторжения испанской армады в Британию. Слухи о войне циркулировали по Англии уже несколько месяцев. Ученые богословы погружались в книгу Откровения, убежденные в том, что Испания — это Антихрист и конец света близок. Страх предстоящей атаки был столь повсеместным, что из-за него у матери Гоббса могли быть преждевременные роды. «Моя мать была переполнена таким страхом», написал Гоббс, что «она носила близнецов: меня и вместе со мной страх» 1 . Это была шутка, которую Гоббс и его почитатели любили повторять: страх и автор «Левиафана» и «Бегемота» — названия в духе книги Иова, которые должны были взывать (если не вызывать) к ужасам политической жизни, — родились близнецами.
Это не совсем так. Хотя страх, может быть, и ускорил появление Гоббса, эта эмоция уже долгое время была предметом изучения. От Фукидида до Макиавелли о ней писал каждый, так что анализ Гоббса не был настолько оригинален, как он утверждал. Но и не так уж сильно он преувеличивал. Несмотря на свои «долги» классическим мыслителям и таким современникам, как голландский философ Гуго Гроций, Гоббс действительно выделил для страха особое место. Если Фукидид и Макиавелли идентифицировали страх как политическую мотивацию 2 , то лишь Гоббс старался заявить о том, что «происхождение великих и старых обществ заключалось не в общей доброй воле людей по отношению друг к другу, но в общем страхе по отношению друг к другу» 3 .
Читать дальше
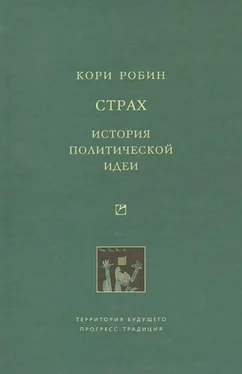




![Эми Ньюмарк - Куриный бульон для души. Мы сильнее наших страхов [101 история о людях, которые рискнули ради мечты] [litres]](/books/399961/emi-nyumark-kurinyj-bulon-dlya-dushi-my-silnee-na-thumb.webp)