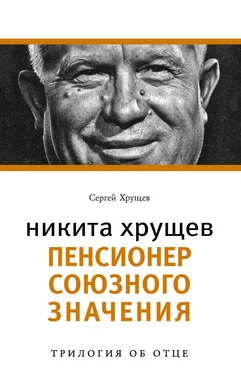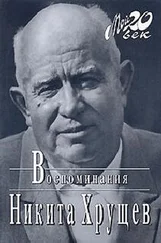«Семидесятисемилетний Никита Сергеевич лежал в гробу на возвышении, окруженном венками и цветами. В ногах у него красные подушечки с тремя звездами Героя Социалистического Труда и орденами. Лицо его было значительным, таким значительным и спокойным, каким мне не доводилось видеть его на страницах газет или журналов, на экранах кино и телевидения. Высокий мощный лоб, волевые скулы. Казалось, на лице его запечатлелась какая-то важная дума, которой так и суждено остаться тайной. Рядом стояли члены его семьи, жена Хрущева Нина Петровна, в сером пальто с черной кружевной накидкой. Лицо, очень простое, открытое, бесхитростное, чем-то очень привлекательное, залито слезами. Тут же стояла Рада Никитична с каким-то отрешенным взором. Казалось, что ей очень холодно. Рядом высокий мужчина. Он очень похож и на отца, и на мать, и ясно, что это Сергей Никитич Хрущев. Тут же стоял Алексей Аджубей с красивым, несколько припухшим и замкнутым лицом» (Г. Федоров).
Всю дорогу, сидя в автобусе у гроба, я мучительно обдумывал, что мне говорить. Никакой подготовленной речи у меня, понятно, не было, только обрывки ночных мыслей. Я не намеревался говорить о конкретных заслугах отца. Подобный тезис всегда спорен, и сегодня это звучало бы вызовом властям, а задираться мне не хотелось. Естественно, не собирался я касаться и самих властей. Все суетное осталось для отца позади. Я так и не придумал ничего конкретного, слова должны прийти сами собой.
На кладбище возникла новая проблема — без трибуны меня никто не увидит и не услышит. У могилы собралась довольно большая толпа. Видимо, на физическую невозможность проведения митинга и рассчитывал Павлов, не возражая против моей просьбы.
Я растерянно огляделся, мое внимание остановилось на куче земли, вынутой из могилы. Рядом на подставке — гроб с телом отца. У изголовья стояли мама, Лена, Рада, Юля, Юра, другие наши родные, еще какие-то знакомые и незнакомые люди. Не раздумывая, я полез на эту кучу. Сверху было хорошо видно. На меня внимания не обращали, я мало кому был знаком. Все молча ждали, что дальше. Толпа сжималась вокруг.
На солнце набежала туча, начал накрапывать дождь.
— Вот и небо плачет вместе с нами, — непроизвольно вырвалось у меня. Затем я начал говорить: — Товарищи, мы сегодня прощаемся с нашим отцом, Хрущевым Никитой Сергеевичем…
Слова цеплялись друг за друга. Я говорил о том, что мы не проводим официальный траурный митинг, нет запланированных ораторов. Тем не менее я хочу сказать несколько слов о человеке, тело которого мы сейчас опустим в могилу.
Я сказал, что не хочу говорить о роли Никиты Сергеевича как государственного деятеля. Моя оценка — сына и современника — не может быть объективной. Свое суждение вынесет история, она расставит все на свои места, оценит каждого по заслугам. Единственно, в чем невозможно сомневаться, — это в том, что Никита Сергеевич искренне стремился сделать все для построения нового, светлого мира, мира, где бы лучше жилось всем. Конечно, были на его пути и ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А он делал, и делал много. Не вызывает сомнения, что личность Хрущева не будет забыта, она не оставляла и не оставляет никого равнодушным: у него есть друзья, есть и враги. И споры о нем, о его делах не затихнут еще долго. Это еще одно свидетельство того, что жизнь свою он прожил не зря. Я говорил о нем как об отце, моем отце, отце всего нашего семейства. Он был хорошим отцом, мужем, другом. Он жив в наших сердцах. Пусть он остается в сердцах близких, в сердцах его многочисленных друзей. Нет слов, способных выразить наши чувства. Говорил я и о том, что мы потеряли человека, который имел все основания называться человеком. Не так много людей, которых можно поставить рядом с ним. Закончил я свое выступление традиционным прощанием:
— Да будет земля ему пухом!
Сверху я видел микрофоны журналистов, протянутые ко мне, и старался говорить погромче. Мне хотелось, чтобы мои слова запомнились, еще раз напомнили людям о человеке, отдавшем им всю свою жизнь. Видел я и другое — рядом с каждым журналистом стояли похожие друг на друга люди в одинаковых одеждах и что-то громко бубнили, стараясь помешать записи.
Потом мне рассказывали, что когда я начал говорить, среди присутствовавших там по службе возникло замешательство: нельзя, не положено. Но действовать никто не решился, такой команды не поступало.
Я огляделся и предоставил слово Надежде Диманштейн, а сам отступил в сторону.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу