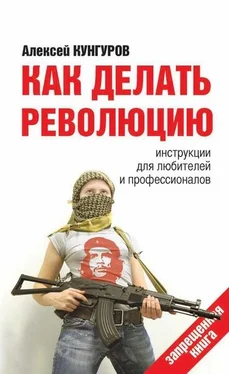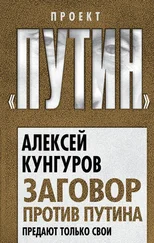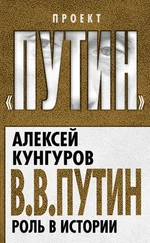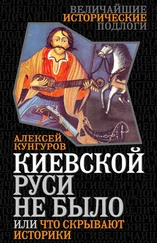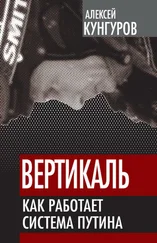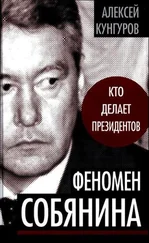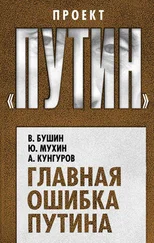Есть основания полагать, что политические проектировщики из Кремля, Лубянки и Старой площади и сегодня сочтут актуальными наработки великого магистра провокации полковника Зубатова. Его idea fix заключалась в создании полностью управляемой оппозиции, периодически зачищаемой, исполняющей роль цепного пса режима, раздирающей за мелкую подачку внутренних врагов империи. Нынешний режим управляемой демократии тем более заинтересован в подобном инструменте. Делать оппозицию управляемой у нас уже научились, однако профессиональный уровень нынешних зубатовцев ни в какое сравнение не идет с мастерством основоположника. Да, мельчают провокаторы, мыслят трафаретно, действуют шаблонно. В результате абсолютно ручная оппозиция становится и абсолютно недееспособной, декоративной. Хотя, возможно, именно такой она и должна быть в условиях современного «общества спектакля» (по Ги Дебору), где главное — это видимость, иллюзия.
13. Кто будет делать революцию в РФ?
У всякой революции были вожди, стоящие во главе революционного класса — той активной части общества, которая выступает локомотивом социально-политических преобразований. В недрах революционного класса вызревает политический проект, в рамках которого оформляется идеология, организационные формы и методы борьбы, символика и мифология революции.
Легко рассуждать о революциях прошлого. Характер государственного переворота февраля 1917 г. был антимонархический и пробуржуазный, роль главного могильщика царизма сыграли военные при участии лидеров либеральных партий и поддержке членов царской фамилии. Движителем русской социально-политической революции октября 1917 г. было крестьянство в союзе с пролетариатом, а политически ее возглавили радикальные социалисты — большевики и примкнувшие к ним левые эсеры. В ходе гражданской войны столкнулись две основные революционные силы — красные и белые. Да, пусть никого не удивляет, что Белое движение я классифицирую, как революционное, а не контрреволюционное. Белые вовсе не стремились к реставрации монархии, они защищали модернизационный проект, альтернативный большевистскому, значительно менее радикальный, более отвечающий интересам буржуазии и интеллигенции (как некоего «среднего класса той эпохи), в то время как большевики отражали интересы широких крестьянско-пролетарских масс.
Но на национальных окраинах развалившейся империи в это время доминировала третья мощная политическая сила — националисты-сепаратисты. Убедительнейшая победа в гражданской войне была одержана красными не только вследствие пробольшевистской позиции крестьянства, получившего землю и не желавшего никакого компромисса в этом вопросе, но и благодаря тому, что большевики блестяще перехватила инициативу у сепаратистов, декларируя широчайшие права самоопределения народов вплоть до отделения, при этом предлагая еще и привлекательный социальный проект. Дмитрий Лысков в книге «Краткий курс истории Русской революции» пишет:
«Большевики совершенно искренне не желали восстановления империи. То государство, которое они создавали, которое они видели, в их сознании не было преемником старого государства. Это было началом чего-то принципиально нового … Именно это и позволило сохраниться имперскому российскому пространству. Интернационализм большевиков разоружал все национализмы. Большевики искренне были готовы принять и воплощать в жизнь все националистические программы, которые вообще возникли на территории Российской империи.
При одном условии. Это условие для националистов в то время могло казаться не самым важным. Сейчас нам оно кажется самым важным, тогда это могло быть по-другому — господство коммунистической партии большевиков.
Для какого-нибудь азербайджанского националиста, основная идея которого заключалась в том, чтобы сделать каким-то образом нацию из аморфной массы, сделать азербайджанский язык, научить всех говорить на хорошем азербайджанском языке, дать всем национальное самосознание — в конце концов не так важно, если большевики сделают это под своими лозунгами, да и лозунги не такие уж плохие». [64] http://lib.rus.ec/b/166197/read.
Итак, все довольно легко раскладывается по полочкам: вот интернационалисты-большевики, вот националисты-самостийники, вот «державники»-белые с идеей единой и неделимой России и типично либеральной концепцией непредрешенчества. Но легко ли было предугадать эту идейно-политическую конфигурацию, сложившуюся уже к концу 1917 г. хотя бы весной? Я не знаю ни одного человека, который бы даже в самых общих чертах дал верный прогноз развития русской революции. Ход любой социально-политической революции предсказать столь же трудно, как предположить траекторию полета осинового листа, подхваченного смерчем. До февральского переворота основной спор велся в плоскости выбора между консервативно-монархическим и либерально-буржуазным проектами. А обернулось все социалистической революцией, которой даже по мнению большинства социалистов (марксистов-традиционалистов) произойти в России не могло.
Читать дальше