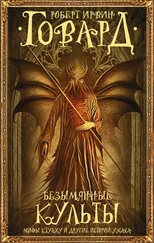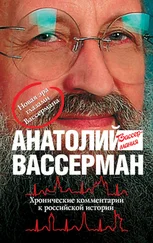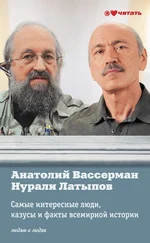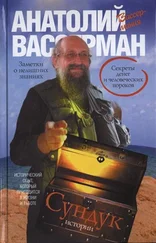Нестабильность содержания влаги в атмосфере — далеко не единственный из этих факторов. Едва ли меньше роль буферной влагоёмкости почвы.
Я уже отмечал, что Рейн практически на всём своём протяжении окружён районами сплошной застройки. Скажем, в среднем его течении — Рурском бассейне — найти открытый участок грунта вряд ли проще, чем отыскать золото и алмазы в тамошних шахтах. Понятно, вся вода, выпадающая в виде осадков в окрестностях Рейна, ни на минуту не задерживается в почве (за отсутствием таковой), а скатывается прямо в реку. Разве что в шахты что-то просочится, но оттуда воду немедленно извлекают мощные насосы и сбрасывают всё в тот же Рейн.
Другой традиционный источник европейских наводнений — Дунай — набирает силу в горах, где слой рыхлой почвы впору измерять в микронах. Естественно, все горные ливни мгновенно поднимают уровень реки.
Впитывающей способности сельскохозяйственных угодий среднего и нижнего Дуная просто не хватает для компенсации колебаний потока, стекающего с гор.
В Подмосковье ещё в 1990-х открытых почв — лесных и сельскохозяйственных — хватало, чтобы удержать основную часть осадков. Паводки на здешних реках были достаточно скромны и сравнительно безопасны.
К сожалению, в последнее десятилетие подмосковные поля и леса постепенно уступают место — в лучшем случае коттеджной застройке, а то и вполне урбанистическим пейзажам. Их влагоёмкость непрерывно снижается. Это не только мешает стабилизации содержания воды в атмосфере, но и не позволяет предотвращать разрушительное воздействие воды, уже из атмосферы выпавшей.
Объёма водохранилищ, созданных для снабжения столицы питьевой и технической водой, пока хватает, чтобы сдерживать сезонные колебания уровня самой Москвы-реки. Но дальнейший рост подобных колебаний во всём регионе способен очень скоро исчерпать этот резерв. И тогда Москва рискует разделить судьбу западноевропейских городов, ежегодно теряющих от наводнений десятки жизней и миллиарды долларов.
Чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо остановить дальнейшее преобразование природных ландшафтов Подмосковья в сплошные массивы зданий и промышленных сооружений. Расширение Москвы практически до границ Калужской области грозит всему региону в случае хищнической вырубки лесов и застройки берегов рек крупной экологической катастрофой.
Предложения о прекращении строительства в городской черте и переходе к массовой жилой застройке окрестностей следует признать пагубным для природы во всех отношениях.
Выход один, это включение Подмосковья в единую с Москвой систему управления природным хозяйством ради стабилизации погоды и на Русской равнине, и в Европе вообще.
Хотя нынешний год юбилейный для битвы Бородинской, я хочу вернуться на триста лет и три года назад, когда состоялась знаменательная Полтавская победа. Военное поражение шведов, с которого начался закат некогда могучего королевства, стало для нас ныне обыденным фактом. На самом же деле и на этом поприще можно сыскать немало творческих идей.
Начнём издалека. Примерно за год до битвы под Нарвой Пётр Первый существенно нарастил численность своих войск, собрав на скорую руку не менее двадцати пяти новых пехотных и двух кавалерийских полков.
Должно быть, вернувшись из Европы, он вполне трезво оценивал способности своей армии и полагал, что сможет сломить силу шведов скорее числом, чем умением. При осаде крепости до высадки основной армии Карла Двенадцатого, у Петра было не менее сорока тысяч человек — против полуторатысячного вражеского гарнизона.
Но даже и после подхода главных шведских сил — порядка двенадцати тысяч, под Нарвой русские имели почти что четырёхкратное превосходство в живой силе, а на одно шведское орудие приходилось более четырнадцати русских.
Но царь Пётр оставил расположение своих войск, сознавая, что такой численный перевес в битве с высокоорганизованным врагом явно недостаточен. Он не хотел, как видно, принять на себя горечь поражения. Он не мог позволить себе, выражаясь современным языком, такого антипиара.
Командование осадой Пётр перепоручил французскому фельдмаршалу, герцогу Карлу-Евгению Круа, имевшему богатый послужной список. Герцогу довелось в составе австрийской армии побеждать турок. Но шведы — не турки.
В сильный снегопад армия Карла вплотную приблизилась к русским позициям и с марша взяла передовые укрепления вместе со всей артиллерией. Началась паника, кавалерия Шереметева бросилась к реке, потеряв на одной только переправе не менее тысячи человек. Завидев это бегство, дрогнули и побежали пехотные части.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
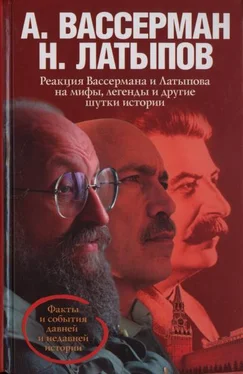
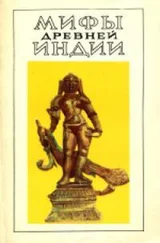
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)