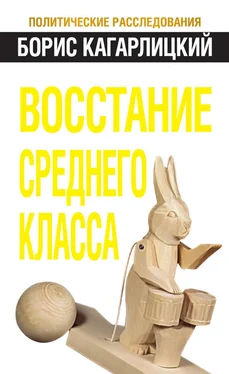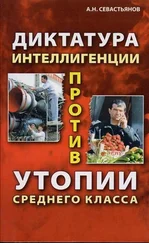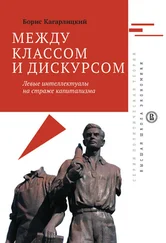Рассказывать об этом на либеральных митингах, перекрикивая свист политических противников и соревнуясь в демагогии с националистическими ораторами, задача неблагодарная, если не вовсе безнадежная. Для того чтобы социальные проблемы оказались в центре общественной дискуссии, нужно не тот или иной слоган протащить на митинг, а обеспечить соответствующий, качественно отличающийся от нынешнего, тип мобилизации снизу. Можно, конечно, ходить на большие митинги, раздавая свои листовки и газеты, разговаривая с людьми, объясняя свои позиции, но гораздо важнее выдвигать собственные требования на местах, разворачивать кампании в защиту школ, детских садов, за решение конкретных социальных вопросов. Эти митинги и акции будут на первых порах куда менее впечатляющими, чем гулянья на проспекте Сахарова, но мы и не должны ставить перед собой цели перещеголять их по массовости. Важна эскалация требований и вовлечение в общественную борьбу людей, на либеральные и националистические митинги не приходящих. Нужно менять социологию, географию и тематику протеста, ведь именно провинциальные избиратели на самом деле по всей стране «прокатили» 4 декабря «Единую Россию».
Если политический митинг в полторы или две тысячи участников (который еще в ноябре казался бы невероятно массовым), после декабрьских событий будет смотреться жалким, то десятки и сотни акций в защиту конкретных школ, детских садов, больниц, привлекающие пусть и по нескольку сот человек каждая, постепенно превратятся в грозную силу, закладывая основу новой мобилизации, куда более массовой, значимой и содержательной, чем то, что мы видели раньше.
Именно перед этими людьми нам нужно говорить, именно они составляют нашу опору. И, в конечном счете, именно от них будет зависеть будущее нашей Родины.
Заключение Бунт или революция?
К восстанию среднего класса элиты менее всего готовы. Начало восстания было впечатляющим и обнадеживающим. Но каковы перспективы восстания?
По мере распада неолиберальной модели средний класс должен заново осмыслить свою роль и осознать свое место в обществе. Кто они – представители среднего класса, пережившие биржевой крах, развал «новой экономики», крушение надежд, связанных с «информационной революцией»? Зажиточные маргиналы, отстаивающие остатки былого благополучия? Или пионеры будущей сетевой экономики, основанной на знании и солидарности? Что перед нами – мелкобуржуазный бунт, каких уже было немало в истории капитализма, или первые бои глобальной антикапиталистической революции? Чем обернется кризис неолиберализма – «вторым изданием» депрессии 1930-х годов, завершившейся фашистским террором и социал-демократическими реформами? Или это преддверие куда более радикальных системных изменений?
Средний класс сам по себе изменить систему не в состоянии. Но что, если его восстание войдет в резонанс с другими проявлениями массового протеста?
Марксизм XIX столетия ждал пролетарской революции в Европе. Старый континент потрясали войны, в нем разворачивались политические битвы, рабочее движение меняло мир. И все же великие революции XX века не были классическими пролетарскими восстаниями, которых ждали ученики Маркса. И произошли они не в странах европейского «центра». Русская, китайская и кубинская революции оказались сложными социальными процессами, происходившими одновременно «на разных уровнях». Система изменилась оттого, что протест разных социальных групп был направлен против одной и той же власти, против одного и того же порядка.
В одних случаях происходил бунт, в других – революция. Итоги революции, в свою очередь, оказывались далеко не теми, о которых мечтали. Но так или иначе они двигали вперед историю.
Вопрос в том, будет ли протест сфокусирован. Смогут ли недовольные объединиться? Возникнет ли у них общий интерес? Появится ли у них если не общая идеология, то хотя бы общее идеологическое поле.
Антонио Грамши называл это «историческим блоком». Сегодня новый антикапиталистический блок еще только начинает складываться. Это не только разнообразие частных и групповых интересов, но и культурная разноголосица. Средний класс обнаруживает свое действительное место в системе, болезненно освобождаясь от иллюзий 1990-х годов. Маргинальные массы разрываемы между соблазнами национализма и революцией.
Социальные маргиналы не порождают собственных идей, они лишь воспринимают чужие идеи. Иное дело маргиналы культурные, выдвигаемые элитами и средним классом в эпоху кризиса. Чем хуже идут дела в системе, тем больше таких «отверженных», ведущих вполне благополучный образ жизни, но мучимых неудовлетворенными амбициями и страдающих от идеологических унижений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу