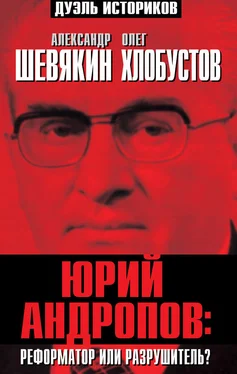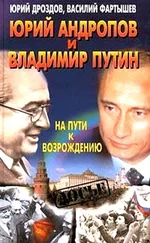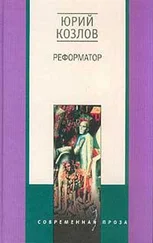— Все идут в атаку, а он ложится в окоп. Как же записать этот эпизод в аттестации? Не напишешь же «трус», ведь он «блатной». Вот и придумали вместо слова «трус» писать «скромен в бою» [69. С. 166–168]. Да, хорошая это штука, юмор, помогает скрыть подлинное отношение. Итак, «товарищ» дезертирует с фронта и проводит операцию прикрытия — профессионал, он действует так, как его выучила эта же самая Советская власть, которую он когда-то в присяге обещал защищать.
Первый заместитель Председателя КГБ РСФСР генерал В. А. Поделякин, говоря о своей работе в США, подчеркивает: «Но совесть моя перед Америкой совершенно чиста, потому что я выполнял задание чисто защитного характера и вовсе никак не покушался на какие-то ее тайны» [70. С. 8].
В разведке выросли настоящие адвокаты дьявола. В. А. Крючков в глубоком пассиве: «Мы ни разу не использовали недозволенных методов в работе против наших противников, решительно порвав с практикой прежних лет, когда принцип «око за око» служил оправданием нарушения норм международного права и законности. К сожалению, взаимностью нам не отвечали…» [71. Кн. 1. С. 110]. В. Кирпиченко отвечает на вопрос: надо ли давить гадов? «Раньше считалось, что у КГБ «длинные руки». Предатели боялись, что их достанут в любой точке планеты. А сейчас выносят ли военные трибуналы заочные смертные приговоры изменникам и как приводят их в исполнение? Такая практика существовала при Сталине. На моей же памяти в разведке не было ни одного случая «охоты на ведьм». Террор — не наш метод, даже по отношению к предателям. Да их жизнь и так жестоко наказывает. Мысль о том, что он предатель, навсегда поселяется в сознании изменника и преследует до самой смерти» [72. С. 18]. Ага, конечно, по ночам энурезом исходит. Скинулись бы на клеенку.
Кстати, израильтяне, например, до конца жизни охотятся за своими изменниками, но мы-то, конечно же, должны быть выше всех этих грязных «еврейских штучек»?
Разведчик, работавший по линии «ПР» в Израиле, Ливане и Египте, подтверждает это по-своему: «Офицеры разведки КГБ и
ЦРУ понимали проблемы другой стороны на уровне своих личных отношений. Мы могли встретиться в баре, вместе посмеяться над какой-либо шуткой, а затем разойтись по своим делам. У нас никогда не было друг к другу чувства неприязни или злобы, мы никогда не подстраивали друг другу ловушки» (Ю. Котов, цит. по: [73. С. 93]). Зато со своим собственным народом борьба идет до «полной гибели, всерьез».
Кто-то, по-моему, О. Гордиевский, писал, что партийные собрания больше всего напоминали уговоры вражеских шпионов сдаться, при этом обещали сохранить звание и оклад. Со стороны же это выглядело так: «Примерно пару раз в месяц нас, журналистов, созывали по телефону из совмиссии на «профсоюзное собрание». Так именовалось ритуальное заседание членов КПСС и ВЛКСМ в специальной комнате без окон, обшитой специальным металлом и пластиком от внешнего подслушивания. Внутри имелся кондиционер, но все равно было душно и тягостно, словно в отсеке подводной лодки. Дежурный оратор — партсекретарь или какой-нибудь дипломат — зачитывал нудно, потея и насупясь, новейшее длинное постановление московских вождей. И сурово заклинал крепить нашу бдительность во вражеской среде.
Оживление возникало, лишь когда предавался анафеме новоявленный советский перебежчик к коварным янки. Чаще всего он был из КГБ. Его полагалось осудить поголовным голосованием и отрапортовать исправно в Москву. При сем можно было отмолчаться, но ради самосохранности не допустить даже невольной усмешки» [74. С. 50]. Повторим: «Чаще всего он был из КГБ». И еще запомним: совесть их перед Америкой абсолютно чиста!
Но в мировой прессе все подавалось с точностью до наоборот. Сколько было статей о страшном монстре по имени «КГБ»? Сотни. Подборка названий значительной части их собрана в специально составленной с этой целью книге [75]. Таков разрыв между реальными делами «советской тайной полиции», как там любили объяснять, и пропагандистской шумихой. Со временем у массового читателя Запада появился безотчетный ужас перед КГБ. А они были такие милые и пушистые перед Западом, который защищали ФБР и их западные коллеги, но зато над советским беззащитным гражданином они отыгрались по полной программе.
И теперь много лет спустя они также продолжают работать на расхолаживание своих кадров и удивляются непримиримости других. В. А. Крючков в своем интервью с исключительно лживым названием «Я сделал все что мог, чтобы спасти державу», вспоминая волну разоблачений шпионов 1985 — 86 гг., говорит: «Многие из предателей были преданы суду, большинство из них приговорены к смертной казни. Причем, удивительное дело, иногда нам казалось, что, может, не стоит строго наказывать кого-то из тех, кто встал на путь предательства. Но, знаете, суды были непреклонны! Никакого нашего давления не было — они сами выносили строгие приговоры за предательство. Иногда нам даже казалось, что слишком строгие» [76. С. 5]. Обратим здесь свое внимание на первую фразу: многие из предателей были преданы суду… Значит, кого-то от суда удалось спасти? И на последнюю: строгие приговоры за предательство. Иногда нам даже казалось, что слишком строгие. То есть ведомство, по-настоящему независимое, карает слишком сурово.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу