Мы вошли в полосу тумана.
— Магритт рисует трубку и подписывает: «Это не трубка». Вы всегда, в своих романах, эссе, статьях, картинах, рисунках, циклах, выступлениях — Максим Кантор? Приходится ли идти на компромиссы, изменять себе, пусть и незначительно, подстраиваться под ситуацию? Ведь легче всего критиковать российских деятелей культуры, находясь за пределами России? Насколько вас интересует мнение российской культурной элиты, и что есть сегодня круг элиты мировой? Может ли вообще художник быть независимым и свободным? Насколько художник и литератор могут самостоятельно строить свою творческую судьбу, или этим, равно как и формированием вкусов и рынка, занимаются аукционы и коллекционеры (музеи, галереи), и издатели (критики, критические рейтинги, вроде The New York Times Book Review)?
— Задавая этот вопрос, вы, думаю, и сами отлично знаете ответ. Если я чем и известен, то неумением идти на компромиссы. Это не хвастовство, чем же тут хвастаться — в компромиссе есть много мудрости. Но так повелось, что я всегда шел поперек течения, против мнения кружка — будь то в школе (я выпускал антисоветские стенные газеты, был исключен), будь то комсомоле (я вышел из комсомола), будь то в союзе художников (я организовывал подпольные выставки), в среде авангардистов (я выступил против авангарда) в среде либералов (я выступал против нео-либерализма) или в среде патриотов — которые вообразили, что я с ними, коль скоро не люблю разграбление страны и демократическую светскую публику, а я выступил против возрождения русской империи и против вторжения в Украину. О каких компромиссах тут можно говорить? Так уж получилось, что я последовательно выступил против всех возможных лагерей. Я знаю, что общение со мной крайне неудобно, и знаю, что вызываю раздражение, если не ненависть, у многих — прежде всего независимостью. Именно независимостью и дорожу.
Насколько меня интересует мнение российской культурной элиты? Даже не знаю, кто это. Работники журналов? Я не считаю кукольный театр за элиту, более того, находиться в их обществе я не хотел бы, считаю это невыносимой мукой. Мне несказанно повезло: я дружил и дружу с умнейшими людьми столетия: с Эриком Хобсбаумом, с Александром Зиновьевым, Витторио Хесле, Тони Негри, Карлом Кантором. Я перечисляю не знакомых, но близких друзей. Это были не формальные отношения, не шапочное знакомство, но глубокая дружба — с Хобсбаумом мы просиживали часы за беседой; с Витторио, крупным философом современности, мы обмениваемся письмами еженедельно, и это большие содержательные письма — ну, о какой иной элите вы говорите? Другой элиты нет, да и быть не может.
Но это не полный ответ. Полный же ответ в том, что мне безмерно жалко времени на светское общение. Когда я нахожусь в какой-то светской жужжащей среде, я физически ощущаю, как от моего короткого века отрезают часы — и это мучительно. Сегодня я со стыдом вспоминаю всякую минуту, проведенную с этими кукольными людьми, — ведь я, как и прочие, ходил в галереи, сидел в гостях, посещал издательства, трещал, журчал, смеялся анекдотам — и эти часы безвозвратно потеряны. А я мог бы провести их со своим прекрасным отцом, читать вслух Платона, слушать его рассуждения, гулять с папой вокруг нашего дома. И эти драгоценные невосполнимые минуты я отдал какой-то светской шпане, культурным пройдохам.
Мне больно и стыдно. Это пустая дрянная среда, она всегда уходит в перегной и всегда воспроизводится опять, но обращать внимание на них — зазорно.
Жизнь очень коротка. Когда не стало моего отца, краткость жизнь стала настолько ощутима для меня, что всякое мгновение я стал переживать как незаслуженный подарок. И неужели эти короткие драгоценные минуты можно отдать на светскую чернь? И неужели успех — рыночный, светский, модный — можно считать за ценность? Как и у многих, у меня был период, вероятно занявший десять-пятнадцать лет, сейчас мне стыдно вспоминать эти годы. Я думал об аукционах, выставках, строил карьеру. Однажды это отвалилось как шелуха и вспоминая об этом времени, я испытываю жгучий стыд, как от скверного адюльтера, как от дрянного поступка. И то, что кто-то из этих марионеток может подумать, что наша семья может зависить от их мнения — это же, право, смешно. В нашей семье был всегда принят другой счет. Это правило передавалось от деда Моисея — моему отцу, от отца — мне, от меня — моим сыновьям. И брезгливость по отношению к светской черни передавалась тоже. Как выражался Данте: они не стоят слов — взгляни, и мимо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








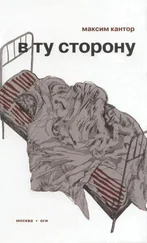

![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)
