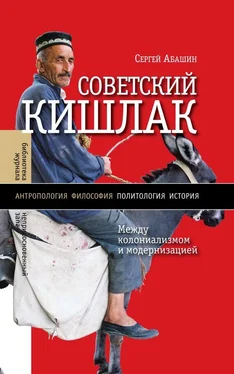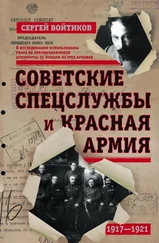Итак, советские этнографы — и представители других научных дисциплин — не могли не заметить, что общие вроде бы для всего советского общества трансформации в Средней Азии имели свою специфику. Проводимые властью реформы, которые должны были нивелировать различия, не достигали своей цели — среднеазиатские республики по-прежнему оставались другим/особым миром внутри одного государства. Понятийный словарь, который находился в распоряжении этнографов, позволял им описывать этот мир как «прошлое», которое по ряду причин (их список и являлся предметом разногласий) задержалось в «настоящем», что в итоге логически неизбежно вело к игнорированию вообще каких-либо изменений, а далее — и к отказу среднеазиатам в самой способности меняться. Концепция традиционализма усложняла понимание советского общества, позволяла увидеть в нем многообразие социальных — а также культурных — отношений. Но при этом она заменяла закрашенную в один цвет картину на простую двухцветную схему, в которой две половины — традиционализм и модерность — противопоставлялись друг другу как несовместимые полюса.
Модерность
Мнение о том, что среднеазиатское общество было и остается по существу традиционным, получило в 1990-е годы широкое распространение в российской науке 34 34 См., например: Малашенко А. В. Мусульманский мир СНГ. М.: Ариэль, 1996; Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Восточная литература, 1995; Карлов В. В. Народы Средней Азии и Казахстана // В. В. Карлов. Этнокультурные процессы новейшего времени. М.: ИЭА РАН, 1995. С. 89—137.
. Однако остается вопрос, чтó с ним произошло или не произошло в советское время, были ли хотя бы какие-то результаты у тех реформ, которые проводились в советскую эпоху, и если были, то каким образом их можно описать и охарактеризовать?
Поляков в статье «Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы собственности в квазииндустриальной системе» предложил заменить понятие социализма понятием индустриального общества и рассматривать советское общество как переходное от доиндустриальной «общественно-производственной системы» к индустриальной 35 35 Поляков С. П. Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы собственности в квазииндустриальной системе // Крестьянство и индустриальная цивилизация / Ю. Александров, С. Панарин (отв. ред.). М.: Наука, Восточная литература, 1993. С. 174.
. По его мнению, перехода этого не произошло и сложилась квазииндустриальная система, которая на самом деле представляла собой «аграрное среднеазиатское общество уже в сталинской, общинно-крепостнической форме» 36 36 Там же. С. 176, 177.
. Поляков, таким образом, оставаясь в рамках марксистского языка, пытался как-то подправить его с помощью новых терминов, чтобы описать объект своего исследования.
Российский демограф Анатолий Вишневский в статье «Средняя Азия: незавершенная модернизация» отказался от сложной марксистской терминологии и взял на вооружение простую дихотомию «традиционность/модерность». Вишневский пишет, что вхождение региона в Российскую империю было «историческим поворотом», вовлечением его в модернизационные процессы, хотя «застойность» среднеазиатского общества не была поколеблена, поскольку советская «модель ускоренной экономической модернизации» не была ориентирована на Среднюю Азию и имела там «лишь ограниченное применение» 37 37 Вишневский А. Средняя Азия: незавершенная модернизация // Вестник Евразии [далее — ВЕ]. 1996. № 2. С. 137, 138. Схожие понятия незавершенной или ограниченной модернизации использовали, например, британский политолог Ширин Акинер и американский политолог Уильям Фиерман, см.: Akiner Sh. Social and Political Reorganisation in Central Asia: Transition from Pre-Colonial to Post-Colonial Society // Post-Soviet Central Asia / T. Atabaki, J. O’Kane (eds.). London and New York: Tauris Academic Studies, 1998. P. 1—34; Fierman W. The Soviet «Transformation» in Central Asia // Soviet Central Asia: The Failed Transformation / W. Fierman (ed.). Westview Press, 1991. P. 11–35. При этом если Акинер подчеркивает успехи трансформации во многих сферах, то Фиерман рассматривает среднеазиатское общество как зависимую колонию и пишет скорее о модернизационной неудаче.
. В результате модернизация этого региона началась, но осталась, как полагает автор, незавершенной. Хотя изменения привели к усилению «горизонтальных связей» и кризису «локальных интеграторов», в целом, однако, среднеазиатское общество осталось «вертикальным» (иерархизированным, сегрегированным) и сохранило, пусть в скрытом виде, все основные элементы традиционности — общинные структуры, пронизанные родовыми и семейно-родственными связями, ограничение самостоятельности индивида, распределение социальных полномочий «по вертикали». Советская система, по мнению Вишневского, играла при этом противоречивую роль: с одной стороны, она не мешала традиционализму и даже консервировала его, с другой — «несомненно смогла запустить механизм модернизации», но «не сумела довести ее до конца» 38 38 Вишневский А. Средняя Азия: незавершенная модернизация. С. 152.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу