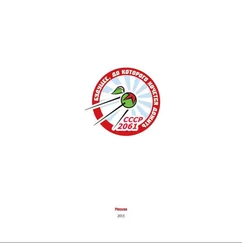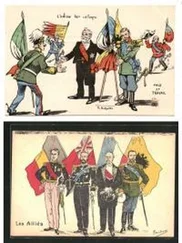Когда Лопухин узнал от Мирского, что последний уклонился принять Гапона, он понял, какую громадную оплошность сделал министр, и предпринял шаги, чтобы исправить её. Он обратился к митрополиту (это — единственное известное нам действие представителя государственной власти, направленное на предотвращение трагедии 9 января 1905 г.: — наше пояснение при цитировании), думая через него раздобыть Гапона и поговорить с ним, но Гапон не пошёл на призыв митрополита. Он, только что искавший случая переговорить с представителями власти, теперь упорно уклоняется от них. Всё это было очень двойственно и неясно. Гапон, как зарвавшийся азартный игрок, шёл, что называется, очертя голову» (А.Спиридович “Записки жандарма”, Москва, “Художественная литература”, 1991 г.; репринтное воспроизведение издания 1930 г., Москва, “Пролетарий”, стр. 171, 172).
К этому времени Гапон был марионеткой П.М.Рутенберга (родился в 1878 г. в купеческой семье, окончил Петербургский Технологический институт, работал на Путиловском заводе). П.М.Рутенберг был весьма деятельным членом партии эсеров и съиграл важнейшую роль со стороны революционных сил как провокатор в организации кровавого воскресенья; со стороны правящего режима решающую роль в его организации съиграл председатель Кабинета министров С.Ю.Витте.
Тем не менее, и вполне естественно, что копия петиции рабочих заранее была доложена по команде и 8 января в Министерстве внутренних дел под председательством Святополк-Мирского было проведено специальное заседание по этому вопросу. С.Ю.Витте, бывший в то время председателем Комитета министров, как он пишет, на это заседание приглашения не получил и на нём отсутствовал. Но вечером 8 января к нему явилась депутация российской интеллигенции: академик Арсеньев, писатели Аненский и М.Горький и другие, кого С.Ю.Витте не называет. С.Ю.Витте пишет:
«Они начали мне говорить, что я должен, чтобы избегнуть великого несчастья, принять меры, чтобы государь явился к рабочим и принял их петицию, иначе произойдут кровопролития. Я им ответил, что дела этого совсем не знаю и потому вмешиваться в него не могу; кроме того, до меня, как председателя Комитета министров совсем не относится. Они ушли недовольные, говоря, что в такое время привожу формальные доводы и уклоняюсь» (С.Ю.Витте “Воспоминания”, Москва, 1960 г., т. 2, стр. 340 — 342, плюс примечания 49, 66, 67 в конце названного тома).
Интересная логика: Витте докладывают, что министры и чиновники возглавляемого им кабинета ошибаются или злоумышленно провоцируют расстрел мирного населения в столице, а он в ответ, что это его не касается: не по должности дескать. Выше него в иерархии власти — только царь, к которому свободного доступа нет. Всё по Н.С.Лескову: Левша: «Скажите государю!!!…» — а те, кто имеет доступ к государю, делают вид, что это их не касается, либо государю это не интересно.
Причём, если сравнить поведение одного и того же человека — С.Ю.Витте — перед катастрофой в Борках («Вы делайте, что хотите, а я не позволю ломать моему государю голову» — его мотивация отказа пропустить царский поезд по подконтрольному ему участку железной дороги с опасной скоростью) и накануне 9 января, когда расстрел толпы даст ход процессам, в результате которых всей правящей “элите” и династии будут снесены головы, то тот же С.Ю.Витте заявляет: «Дела этого совсем не знаю и потому вмешиваться не могу».
Вот и думайте, чем обусловлено такое разительное изменение С.Ю.Витте: его родственными связями с «тайной доктринёркой» Е.П.Блаватской (наиболее известное её произведение “Тайная доктрина”) и обусловленной ими эгрегориальной одержимостью; вступлением во второй брак с иудейкой, также одержимой сионистским эгрегором, любящей роскошь и оказывающей давление на мужа — подкаблучника и государственного деятеля одновременно; или же прямым посвящением в масонство и орденской дисциплинированностью в русле проведения в жизнь определённого политического сценария?
Между тем уже в наши дни некоторые активисты “демократизаторы” в интервью заявляли о своём уважительном отношении к С.Ю.Витте. Так что ничего нового политические интриганы наших дней не придумали, но цинизм в их среде тот же. Однако исторические обстоятельства за прошедшие сто лет изменились, и потому результат будет для них неожиданный и неприятный…
[64]Термин «профашистские» в данном контексте «условный», поскольку обвинения в фашизме, высказываемые в адрес тех или иных лиц, общественных движений и организаций, в наши дни большей частью исходят от сторонников фашизма, которые реально уже находятся у власти, или которые рвутся к власти или мечтают о ней, и обвиняют в фашизме своих конкурентов и политических противников.
Читать дальше