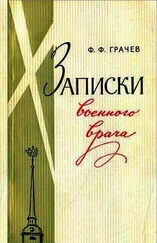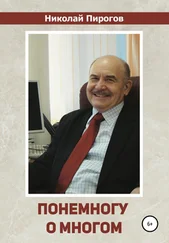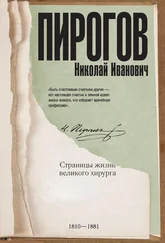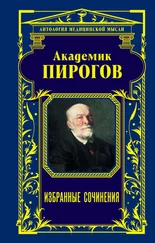Я убежден, однако же, что, не тяготей над нашими студентами с 1826 года, целых тридцать лет, систематический гнет попечительств, инспекторов и т. п., молодежь встретила бы веяния нового времени совсем иным образом. Несмотря на мою незрелость, неопытность и детски наивное равнодушие к общественным делам, я все-таки тотчас же почувствовал начинавшийся с 1825 года гнет в университете.
Гнет этот, как известно, усиливался crescendo [162] Нарастая ( ит .).
и даже до сегодня, с некоторыми перемежками, следовательно, не тридцать, как я сейчас сказал, позабыв, что делалось в последние двадцать лет, а целых пятьдесят лет. Довольно времени, чтобы, исковеркав lege artis [163] По всем правилам искусства ( лат .).
молодую натуру и ожесточив нравы, перепортить и погубить многие сотни и тысячи душ.
Вот куда зашел я из 10-го нумера и забыл, что хотел еще говорить о московских извозчиках, возивших меня почти ежедневно с Неглинной (университет, по понятиям тогдашних извозчиков, находился на Неглинной) к Троице в Сыромятники. Species [164] Вид, разновидность ( лат .).
моих возниц именовали волочками, и я имел удовольствие в течение целого года по вечерам ездить из университета домой на волочках.
Этот, теперь не существующий, род возниц перетаскивал человеческие телеса на дровнях. Незатейливый экипаж волочка действительно был не что иное, как небольшие дровни, покрытые каким-то подобием подушки; садились на эти дровни сбоку; ноги оставались свешенными на землю, и если были очень длинны, то едва не волочились по земле; когда было грязно, то предлагались для прикрытия колен и голеней дерюга или мешок, нисколько, впрочем, не оправдывавшие возлагавшихся на них надежд.
Как бы современному прогрессу ни казались ненормальными извозчичьи московские волочки 1825 года, но они вполне гармонировали с тогдашним состоянием столичных переулков и моего кармана. За десять и за пять копеек, смотря по тому, где я садился на волочки, они везли меня целых восемь верст в темные, осенние вечера по непроходимой грязи различных переулков и закоулков, путешествие пешком по которым было сопряжено с опасностию для жизни, и я это испытал несколько раз, когда мне приходилось отправляться по инфантерии.
Раз, в безлунный, темный, осенний вечер, я, не желая передать извозчику более пятачка, загряз по щиколотки в каком-то глухом закоулке и был атакован собаками; перепугавшись не на шутку, я кричал во все горло, отбивался бросанием грязи и, наконец, кое-как выкарабкался из нее весь испачканный и с потерею калош.
Извозчики и учащаяся молодежь – это два самых верных барометра культурного общества: по ним узнается очень скоро и настроение, и степень культуры общества. Иначе и не могло быть. Чем деятельнее обмен веществ, тем живее и совершеннее организм. Чем деятельнее обмен идей, а с ними и умственных и материальных произведений, тем культурнее и совершеннее общество. А кто, как не школа и молодежь, укажет нам прямо и верно умственную жизнь общества, его стремления, силу и скорость обмена господствующих в нем идей? Кто, как не извозчики и главный их raison d’кtre – пути сообщения, покажет нам силу и скорость обмена в материальном быте общества?
Прошло менее года, судя по расчету времени, и гораздо более, судя по одним воспоминаниям, с тех пор, как я вступил в Московский университет, и страшное горе-злосчастие разразилось над нашею семьею.
Уже года два тянулась история с покражею казенных денег комиссионером Ивановым; дом и имение были уже описаны в казну, были и частные долги; но отец умел вести дела, был поверенным по разным делам и, между прочим, и по имению генерала Николая Мартыновича Сипягина, женатого на богатой Всеволожской.
В течение этого времени, помню, толковали много у нас о приезде в Москву для ревизии комиссариата какого-то грозного Аббакумова; называли его аракчеевцем. Он упек многих под суд; отец, однако же, избежал суда и вышел попросту в отставку; мы продолжали жить почти что по-прежнему, как в былые счастливые дни. Я помню еще, как отец, вышед в отставку, в первый раз надел темно-коричневый, с темными пуговицами, фрак и сапоги с кисточками; помню, кажется мне, и то, что он стал как-то задумчивее, неподвижнее; прежде мы только по вечерам его видали дома; теперь мы заставали его нередко посреди дня спящим на диване; он чаще стал жаловаться на головные боли, и характер его, должно быть, изменился; вспыльчивый и горячий по природе, отец сделался равнодушным. Как теперь вижу, он сидит и бреется; входит низенькая, толстая фигура банщика и торговца дровами и начинает тянуть предлинную канитель об уплате денег за купленные у него дрова и, заметив, наконец, равнодушие отца к его доводам, говорит: «Нет, я уже теперь вижу, придется идти мне не к Ивану Ивановичу (моему отцу), а к Александру Алексеевичу» (т. е. к московскому обер-полицеймейстеру Шульгину с жалобою на должника). На всю тираду банщика отец не отвечает ни полслова; я стою и слушаю, и, верно, слушал очень внимательно, если до сих пор помню.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу