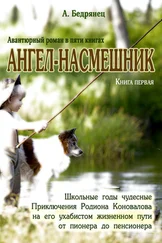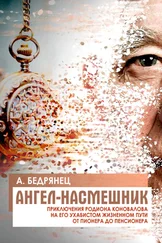С совершенной несомненностью помню, с каким торжеством прочёл я, возвращаясь с почтой, что «Шестаков и Дубасов потопили турецкий монитор»! Мне не терпелось, и когда мы доехали до дороги, огибавшей сад, я соскочил с телеги и через сад прибежал, чтобы возвестить дома об этом нашем успехе на море. Газетное барабанное бахвальство и буйно разросшийся во время войны шовинизм, по-видимому, не могли не повлиять на мои настроения.
Отчётливо сохранились в памяти и другие волнения и горести, относившиеся к периоду 1877–1878 гг. Особенно плакала и горевала старшая сестра по поводу тяжёлой болезни и смерти Н. А. Некрасова. Она прочитывала вслух и перечитывала много раз со слезами последние стихотворения поэта, напечатанные в «Отечественных записках»: «Двести уж дней, двести ночей муки мои продолжаются», «Скоро стану добычею тлена», «О, муза, я у двери гроба» и другие. Об отношении к поэзии Некрасова в нашей семье говорит то, что я уже знал тогда наизусть постоянно декламировавшиеся у нас его стихи и поэмы: «У парадного подъезда», «Железная дорога», «Отпусти меня, родная». Но я говорил наизусть и ряд резко обличительных произведений Некрасова, таких, как «Окружают тебя добродетели, до которых другим далеко» или «Колыбельная песня».
Помню, как больно и горько отзывались на всех окружающих неудачи под Плевной, какое негодование вызывали передававшиеся из уст в уста слухи о попытках неподготовленными штурмами взять её по приказу командовавшего армией брата царя, Николая Николаевича Старшего, ко дню именин Александра П. Штурмы эти стоили жизни десяткам тысяч солдат. До сих пор в моей памяти встают бичующие популярные тогда слова революционного стихотворения о взятии Плевны:
Именинный пирог из начинок людских
Брат подносит державному брату,
А на родине ветер холодный шумит
Да разносит солдатскую хату.
Помню восторги, находившие отклик и в моих настроениях восьмилетнего непокорного резонёра, дикого «буки», от подвигов моряков Дубасова и Шестакова, от восхваления доблестных, стремительных продвижений Гурко, а затем Скобелева.
Живые воспоминания остались у меня о турецких военнопленных, которые в очень значительном количестве были размещены к концу войны в Козельце. В это время отец из Борок перешёл на работу в Алексеевщину, куда, сколько помню, приглашён был Бодровым, который сам не жил в своём небольшом имении, но хотел его получше устроить. Рядом с хутором Разумы, в двух-трёх верстах от Козельца, была запущенная липовая роща. Подле неё и устраивалось новое хозяйство. По плану отца прокладывалась дорога, её обсаживали тополями. Копали пруд, шла разбивка сада. Отводились земли под плантации. Целые десятины засаживались виноградными черенками «чубуками». К работе привлекались военнопленные. Воинский начальник по заявке присылал под охраной сто и более пленных. Охрана обычно состояла из двух часовых из новобранцев.
Нам, детям, сначала в диковинку было смотреть на турок в красных фесках и в особой, непривычной для нашего глаза, обуви. Мы их боялись, с большой опаской относились к «башибузукам». Но скоро я и брат Серёжа познакомились с пленными. Русские часовые относились к нам очень ласково. Мы стали отличать среди пленных благодушных и добрых «османов» (из Константинопольского вилайета). Они весьма отрицательно относились к войне, с нетерпением ждали, когда будет заключён мир. По преимуществу это были мобилизованные во время войны не очень молодые крестьяне, у которых дома остались семьи, дети. Они постоянно говорили о своей тоске по дому. Мы старались обучать их русскому языку. По их просьбе читали им газетные новости и в особенности о всяких слухах о ходе переговоров о мире. Они же научили нас многим турецким словам, объясняли свои обычаи, рассказывали об особенностях своего быта. Многие из них были крупного роста, силачи. Один из пленных, играя, брал часового и выкидывал его на копну сена. Когда началась уборка луга и полей, турки оказались умелыми косцами. Придя на работу, они утром и вечером совершали свои молитвенные обряды, омовения. Утром и за обедом обильно сопровождали еду хлеба и приварка большим количеством зелени, петрушки и сельдерея, обмакивая их в соль. Некоторые из «османов» с особой симпатией относились к детям. У меня завязалась дружба с одним из них, которого я в шутку называл «осман-паша». Он с удовольствием во второй год, когда уже довольно хорошо научился говорить по-русски и поджидал скорой отправки домой, рассказывал о своих детях, о хозяйстве и жизни на родине. А так как я очень часто приносил ему угощение из дома, он обещал мне прислать, когда вернётся из плена, какой-нибудь турецкий подарок. И он выполнил своё обещание. Спустя два года после войны он по почте прислал с трогательной запиской верхнюю летнюю рубашку с нашитыми в виде украшения густыми рядами перламутровых пуговиц.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
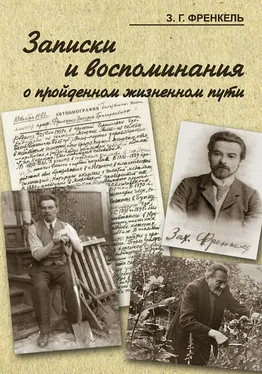


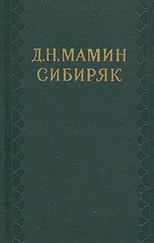
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)