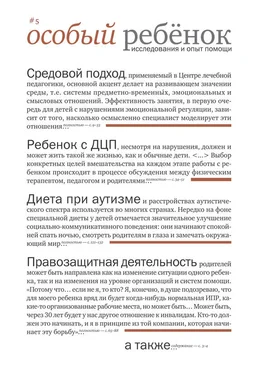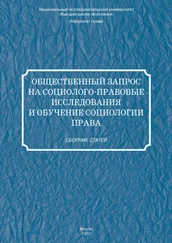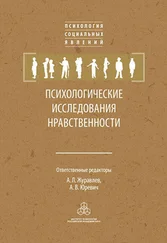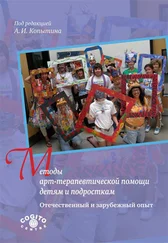При интеграции звена субъектной регуляции также появляется игра, в которой ребенок саму себя вызывает определенную эмоцию, но не захватывается ею, т. е. эмоции не овладевают поведением ребенка. Он боится бабы-яги, но даже во время игры его поведение полностью не определяется этим страхом, и он может закончить игру и избавиться от страха в любой момент. У ребенка, у которого не сформирована сюжетная игра, например у детей с выраженным снижением интеллекта, проигрывание эмоций может принимать форму создания острых эмоциональных ситуаций: улечься на пол, когда взрослый ведет ребенка, начать раздеваться и т. д. Важно, что при нормально функционирующем звене субъектной регуляции ребенок не теряет контроля над такой ситуацией – он следит за реакцией взрослого, обращает внимание на происходящее вокруг и, что очень важно, может по собственному желанию завершить конфликт. То есть ребенок способен дистанцироваться от своей эмоции, что дает возможность контроля над эмоцией.
У ребенка с дезинтеграцией звена субъектной регуляции игра носит стереотипный характер, в ней либо отсутствует проигрывание какой-то эмоции, либо ребенок застревает на одной эмоции, она полностью начинает диктовать его поведение, он не способен самостоятельно, без внешней опоры, преодолеть ее, т. е. выйти из игры. Как уже неоднократно отмечалось в литературе, одновременно с этим ребенок начинает испытывать интерес к эмоциям другого человека, а также к тем средствам, с помощью которых он может влиять на эмоциональные состояния других людей. Обычно авторы делают акцент на негативном аспекте этого интереса, обращая внимание только на «добывание» ребенком эмоций других. Но это только одна сторона медали, ведь вместе с этим открывается возможность к сопереживанию, при котором ребенок отчасти идентифицируется с другим, а это предполагает, что он испытывает его эмоцию, но она не захватывает его полностью. Этим сопереживание отличается от эмоционального заражения. Переживая эмоцию, ребенок может взглянуть на нее со стороны. В этом смысле сопереживание напоминает игру. Здесь также нужно обратить внимание на различие между сопереживанием и пониманием того, что испытывает другой, основанном исключительно на когнитивном анализе ситуации.
Интеграция этого функционального звена связана с формированием саморепрезентации. Поэтому во многих случаях у ребенка при запуске механизмов звена субъектной регуляции в речи появляется спонтанное употребление местоимения «Я». С другой стороны, у ребенка, находящегося на стадии интеграции звена субъектной регуляции, саморепрезентация носит еще не вполне устойчивый характер, у него могут появляться некоторые дезадаптивные поведенческие проявления компенсаторного типа. У такого ребенка можно выявить наличие пространственных страхов, страха темноты, связанных с тем, что ребенок еще недостаточно осознает себя в пространстве. Если у ребенка самосознание еще практически отсутствует, у него нет и боязни «потерять себя», а значит, нет и пространственных страхов. В этом случае появление такого рода страхов мы рассматриваем как позитивный симптом, указывающий на прогресс в развитии системы эмоциональной регуляции. Другим проявлением запуска нового функционального звена является появление потребности в ломке стереотипной ситуации (например, ситуации урока) с целью выделиться, вычленить себя из стереотипа (непослушание, шалость). Надо отметить, что это также может приводить к временной дезадаптации. Иногда в подобных случаях ребенок действует по принципу: «Меня ругают, значит, я существую». При возникновении таких проблем можно создавать ситуации, где ребенку отводится какая-то особая роль, отличающая его от остальных, но имеющая конструктивную направленность, – помощник учителя, «ведущий» в игре и т. д.
Развивающая среда, способствующая интеграции механизмов звена субъектной регуляции, должна прежде всего способствовать развитию у ребенка саморепрезентации. В основе этого лежит формирование физических границ «Я» – «не Я» и эмоциональных границ «Я» – «Другой». Наиболее естественно такая среда может строиться в рамках совместной деятельности.
С точки зрения пространственно-временной организации мы предлагаем ребенку динамическую, изменяющуюся среду. Однако это не означает, что нет никаких инвариантных, устойчивых регуляторов поведения. В качестве таких регуляторов выступают правила, которым должны подчиняться как ребенок, так и взрослый. Можно сказать, что такая среда предполагает свободу в границах установленных правил. Часто такую среду удается построить в рамках игровой терапии, в ходе совместной деятельности на занятиях арт-терапевта, в терапевтической (например, керамической) мастерской.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу