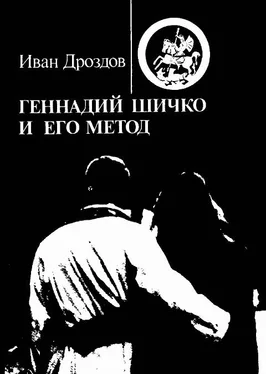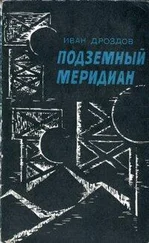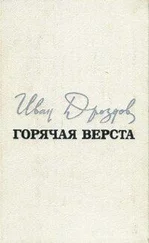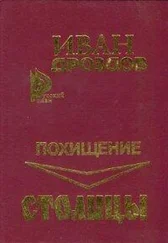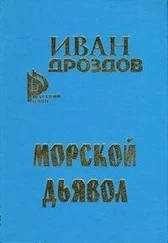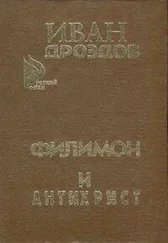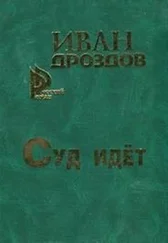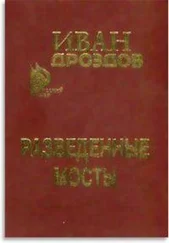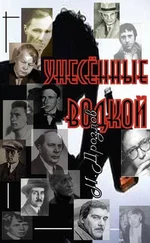— С детства вы запрограммированы на винопитие. Еще ребенком видели в руках отца рюмку с вином, заметили, как отец и его товарищи, поднимая рюмки, улыбались, радовались. В вашем сознании отложилась мысль: вино — это хорошо, вино можно пить, от него бывает весело, хорошо, вон отец и другие дяди смеются, поют. Это — хорошо.
Время шло, и однажды вы сами выпили рюмку вина. Вам оно не понравилось, от него закружилась голова, но мысль, что это хорошо, работала, а кроме того, все вокруг говорили: вино — нектар, вино, вино, оно на радость нам дано; какой же ты мужчина, если не будешь пить?
Так в сознании, раз поселившись, закреплялся, разрастался вирус винопития, мысли выстраивались в систему взглядов, становились программой.
В этом духе говорил и Геннадий Андреевич. Каждый его последователь говорит о том же, но по-своему, и примеры, аргументация, и вся система убеждения свои, собственные. Важно знать сущность метода, видеть дорогу, по которой идти, а уж ноги переставляет каждый по-своему, походка у всех разная. Геннадий Андреевич любил приводить высказывания великих людей, знал много книг, посвященных проблеме пьянства, и знал писателей, поэтов, которые бездумно писали о рюмке, сами того не желая, пропагандировали пьянство, внушали коварную мысль о пользе вина; рассказывал о спектаклях, артистах, которые говорили со сцены о том же. Тосты, тосты... Хорошо знал авторов, которые гневно и талантливо писали о вреде алкоголя. Поэтов Игоря Кобзева, Алексея Маркова, Сергея Викулова. Однажды перед занятием я показал ему новое стихотворение Маркова. С него Геннадий Андреевич и начал занятие:
Я был на мусульманской свадьбе,
Чечен женился на ингушке.
Тебе, Россия, побывать бы
В ауле том, на той пирушке!
Держал он руку на Коране
И повторял: «Аллах великий!
Тебе клянусь: магометане
Всех обойдут иноязыких!»
В тарелке он растер окурок,
И пяткой — рюмку по паркету.
Сказал, насупив брови хмуро:
«К чертям! Пусть враг глотает это!»
Итак, вот вам тема первого занятия: «Почему люди пьют?» Вторая тема: «Как я стал алкоголиком» или: «Как я приобщился к винопитию?» У каждого своя история, свои конкретные лица, эпизоды, наконец, свое собственное восприятие мира. Занятия на эту тему всегда интересны. Их может проводить каждый грамотный человек.
Третья тема: «Кто и зачем нас отравляет?», «Кого можно считать алкоголиком?» и т. д. На курс — десять тем, десять занятий.
Набор тем легко составить, если прочесть хотя бы одну книгу Ф. Г. Углова. А если прочесть все семь его книг — он в каждой глубоко разрабатывает эту тему, — то тогда можно будет не только составлять тематику занятий, но и насыщать занятия нужным материалом.
Каждый человек по своей природе педагог. Овладев какой-то суммой знаний, он оснастит их собственным опытом, своими взглядами, по-своему объяснит их и растолкует. И если это будет делать не по бумажке, а своими, хотя и не очень гладкими словами, занятия обязательно будут интересными.
В конце каждого занятия, Шичко обыкновенно говорил:
— Завтра наша беседа пойдет на другую тему, о том, каким путем и когда появился в России алкоголь, кто спаивал наш народ, с какой целью.
Знания на эту тему легко почерпнуть и в популярных брошюрах об алкоголизме. Их много, они интересны, но, повторяю, особенно глубоко и правдиво разработаны эти вопросы в книгах академика Ф. Г. Углова.
И еще Шичко обращался к своим слушателям:
— Каждого из вас прошу вести дневник. Напишите, пожалуйста, как и когда вы приобщились к алкоголю, вспомните конкретные лица, эпизоды.
Эти записи становились потом основой для собственных бесед учеников Шичко, если они, пройдя курс отрезвления, сами потом брались за отрезвление пьющих.
Я наблюдал, как поначалу слушатели скептически относились к требованию вести дневник — зачем да для чего? Мы люди взрослые и незачем заниматься пустяками.
Но Шичко настаивал:
— Отрезвление гарантирую тем, кто будет строго выполнять мои требования. Дневник — обязательное условие нашей работы.
Обыкновенно я устраивался в задних рядах и мог наблюдать за каждым слушателем. Впереди меня сидел мужчина лет сорока с шапкой густых волнистых волос, уже подернутых сединой. Я уже кое-что знал о нем: он был главным инженером крупного ленинградского завода, автором многих изобретений, известных у нас и за границей. К Шичко его привели мать и супруга — обе они, пока шли занятия, сидели во дворе.
Дмитрий Павлович — так его звали — не хотел вести дневник, сидел держа руки в карманах, отводил голову в сторону от взгляда Шичко. Тот уловил настроение пациента, сказал:
Читать дальше