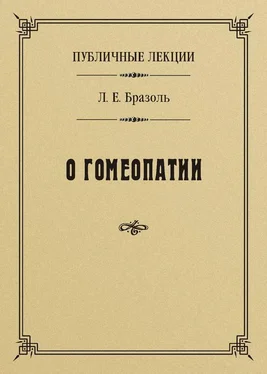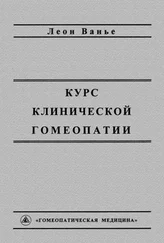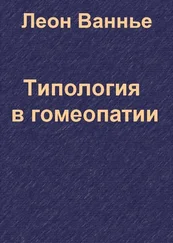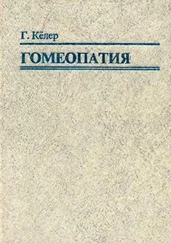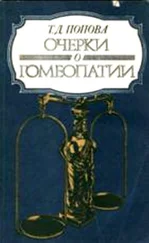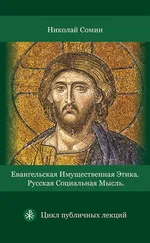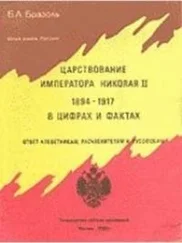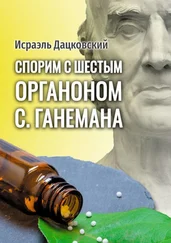при содержании же:
1,56 грамм чистого аммиака — первые следы действия через 24 часа;
0,78 — * — несколько более сильное действие;
0,40 — * — сильное действие по прошествии короткого времени;
0,20 — *— то же;
0,10 — * — то же.
Откуда следует, что водный раствор аммиака, разбавленный до 1/100 000 — й части по весу чистого аммиака, раньше 24-х часов ещё не обнаруживает никакого действия на свинец; но что оно начинает проявляться в более значительной степени только при 250 000-ом разбавлении, и что даже раствор 1 части аммиака в 1 000 000 частей воды всё ещё оказывает сильное действие.
Из всего этого следует, что, желая определить действие какого-либо вещества, нельзя ограничиваться одним соображением о его количестве , но следует непременно иметь в виду его качества или свойства, а эти последние должны изучаться таким образом, что соответствующее вещество приводится во взаимодействие с другими телами, и затем подвергается исследованию вопрос, какие изменения его свойств наступают от изменения его количества. Поэтому и действие гомеопатических лекарств определяется не на основании арифметических вычислений, а на основании фактического их влияния на человеческий организм .
Наконец, г. Гольдштейну, по-видимому, совершенно неизвестны первоначальные основания молекулярной физики, иначе его не приводил бы в тупик известный факт, что энергия молекулярного движения может весьма значительно возрастать по мере разрежения или разбавления вещества и удаления взаимного расстояния молекул друг от друга. Но об этом в другой раз.
В заключение, нельзя опять не обратить внимание на слабость логических приёмов у человека, требующего строгой научной логики у других, но постоянно уклоняющегося от предмета спора. Характеристикой г. Гольдштейна в его системе возражать является следующая черта: он начинает об одном предмете, а кончает совершенно другим. Так, в первую мою беседу, он говорит: «Обращаясь к содержанию той лекции, которую мы только что выслушали, я обращаюсь с вопросом…». Но уже тут сейчас, при постановке вопроса, забывает и уже до конца не вспоминает, что ему именно следует обратиться к содержанию прослушанной лекции. Также и в настоящую мою беседу, он в самом начале задает себе вопрос, с чем мы имеем дело в гомеопатии, с научной ли системой или же со способом лечения больных, и обещает, что рассмотрение первого вопроса, именно в какой мере гомеопатия есть наука в строгом смысле слова, даст ему «повод сказать несколько слов в настоящей беседе». Но уже с первых же слов он забывает и свои вопросы, и свои обещания, теряется в химической казуистике и ни единым словом не касается содержания моей беседы. Он заявляет, что хотел выяснить студентам, где корень «тех основных недоразумений, которые не позволяют аллопатам и вообще учёным людям принять гомеопатию как научную систему». На наш взгляд, ему удалось только доказать, что корень всех его недоразумений заключается в том, что в самом существе его понятий о гомеопатии есть некоторый nonsens, не требующий никакого дальнейшего разъяснения. Л. Б.
Уважаемый профессор, по-видимому, думает, что в крестьянском населении существуют сносные или хорошие гигиенические условия. Едва ли кто из близко знакомых с бытом крестьянского люда согласится с этим положением! Л. Б.
И по прошествии 115 лет с лекции д-ра Бразоля, знания о натуральной и коровьей оспах много не прибавилось. Если чего с тех дней и прибавилось, так это только прививок — таких же слепых и вредоносных, как и против оспы.
Интересующихся этим вопросом отсылаю к двум моим брошюрам: 1) «Мнимая польза и действительный вред оспопрививания. Критический этюд», 1884 2) «Дженнеризм и пастеризм. Критический очерк научных и эмпирических оснований оспопрививания», 1885. СПб, в книжном магазине К. Риккера, Невский, 14. Л. Б.
Краткое возражение проф. Тарханову читатели найдут в третьей беседе в моём заключительном резюме. Более подробное же при случае, может быть, составит предмет отдельной статьи. Л. Б.
Здесь следует объяснить, что неистовая г-жа М. М. Манассеина была в то время супругой проф. Санкт-Петербургской Военно-Медицинской академии В. А. Манассеина (1840–1901), редактора им самим созданного журнала «Врач», непримиримого противника гомеопатии (впоследствии она его вероломно бросила). Пиком вражды с гомеопатией в целом и д-ром Бразолем в частности, стала дикая выходка Манассеина, отказавшегося, в качестве Председателя Общества помощи нуждающимся студентам-медикам, принять деньги, полученные Бразолем за лекцию, прочитанную в 1890 г., единогласно осуждённая прессой. Бразоль, в силу присущей ему деликатности, не стал комментировать петушиные наскоки профессорши и её демонстративный отказ редактировать свои реплики.
Читать дальше